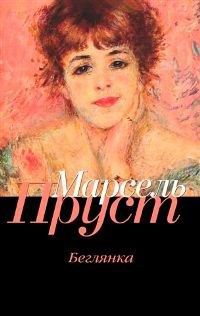Книга Хорошие люди. Повествование в портретах - Анастасия Коваленкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не понимала Нюку и её сестра Валентина. Поначалу и поминать не поминала про дом, чего зря бередить? А та – сама ни слова. Да уж время прошло, ведь пора бы, определиться вроде надо…
* * *
– Нюк, а ты вообще строиться-то собираешься? – спросила она уже с сомнением как-то за чаем.
Нюка сидела напротив, за круглым столом. Глядела в чашку, ложечкой медленно размешивая сахар в тёмном, дымящемся чае.
– Я, знаешь, весной в наш скворечник переберусь, – уклончиво ответила она. Скворечником в семье называли маленькую избушку, что стояла в конце участка. Давно уже в ней никто не жил, а строили её когда-то под дачников.
– Ну а дом-то?
Нюка подняла на Валентину глаза, улыбнулась:
– Валь… ну не хочу я дом.
– Как же не хочешь?
Она пожала плечами:
– Ну… вот так. Совсем не хочу.
Валентина, резко двинув стулом, встала, пошла к печке. Долго ворочала там кочергой, разбивая непрогоревшие поленья. Закрыла дверцу, чуть притворила заслонку. Постояла, глядя в завешенное прозрачным тюлем окно: там покачивался на слабом ветру фонарь, выхватывая из темноты кусок сугроба и медленно опускавшийся снег.
– Да что ж с тобой случилось? – обернулась она к Нюке. – Ты же всегда такая домовитая была, рачительная? Какой дом был справный… А? Нюка? Да в себе ли ты?
Нюка сидела, опершись локтями о стол и сцепив руки. Она всё переминала их, то так, то эдак, смущённо улыбаясь и покачивая головой.
– Да вот как раз в себе, в себе, Валь, – проговорила она и, будто вдруг открывшись, решив что-то, широко провела обеими ладонями по скатерти.
– Мне только перед людьми неловко. А сама-то я в себе и всё про себя понимаю. Я, знаешь, про дом-то… я загодя чувствовала. Сама подумать боялась, а всё мне неладно с ним было, с домом, в те дни перед пожаром. И самой казалось жутким, как это так? Выходит…
Она смолкла, ища слово. Сестра стояла посреди комнаты, так внимательно глядя на неё, как может смотреть человек на косноязычного, силясь понять его речь.
– …Выходит, не нужен мне теперь такой дом. Он меня, веришь ли, будто связывал. Вот и родной, и хозяйство… а зачем это всё мне? Пока дочки, муж, оно понятно. А сейчас? Я на волю хочу, Валя.
И, сказав эту правду, словно сказав запретное, она замолчала.
Сёстры стали убирать со стола. Они, без слов, привычно-справно хозяйничали, передавая друг другу посуду, споласкивая, вытирая, убирая в сервант. И продолжался между ними при этом молчаливый, согласный разговор. Не нуждающийся в словах.
Когда уж всё доделали, Валентина, уходя за перегородку, укладываться, задержалась в проёме, глядя на сестру. Та аккуратно складывала снятую кофту в чемодан, стоявший у дивана, на котором она теперь спала.
– Счастливая ты, Нюка, – сказала Валентина.
Интерлюдия. Грибы
Проснувшись, глаза ещё не откроешь, а уже услышишь, что дождь перестал. И точно поймёшь, что они там, на берёзовом острове в поле, ждут.
Грибы уже стоят там. И надо спешить.
Торопливо шагаешь вверх по дороге, размахивая корзинкой, теребишь в кармане складной ножичек.
Потом прорываешься сквозь высокую траву луговины, в гудении слепней. И, замедлившись, приготовившись, вкрадчиво входишь под берёзы.
А они не дождались тебя. Ждали, ждали…
Стоят тут белые грибы, но уже огромные, с обвислыми шляпками. Некоторые упали. Вот ведь обидно.
Оказывается, были здесь они все эти дождливые дни. Крепенькие такие, бархатились в траве, а ты не шёл. Теперь опоздал.
Вздохнув, смиренно полезешь под мокрый орешник, за красными бедненькими сыроежками, терпеливо обрезая плохие ножки. Их много, ты, кланяясь, плетёшься в их стаде вглубь острова. Ладно…
А край глаза вдруг ловит его, его замшевую коричневую шляпу! Где?
Косишься, ещё не веришь ты, может, валуй? Нет, он белый, он улыбается тебе из-под куста. И без касания чувствуешь его скрипучую поверхность, срывая, уже примечаешь другой. Ты понимаешь, что они – твои. Пальцы обжигает догоревшая забытая сигарета.
Прыгает радость внутри, рыщешь – ещё один и ещё. Вот они куда ушли, под ёлки. За шиворот сыпется хвоя, ну и пусть…
Ах, какой толстый, небось, червивый? Нет, чистый.
А может, не собирать всё, оставить на завтра маленькие?
Ну да. Так и надо.
Но вот ещё вон там можно ведь глянуть?!
И как раз там – трое маленьких крепышей, гордо вырвались из хвойной подушки. А не залез бы туда – до завтра они подросли бы… Не гляди дальше! Уходи.
Уходишь с острова. В большой лес, скорее. Торопишься, предчувствуешь. Сунулся за сигаретой, а нет пачки, обронил второпях.
Запинаешься о компанию лисичек на опушке – так, хорошо, собери аккуратно. Да сейчас, сейчас, ну, всё уж?! Вон же, вижу уже его. И ещё один белый, и там вон – три…
Какая такая тайна скрыта в белом грибе, отчего так счастлив ты, встречаясь с этим созданием? И он рад, что его нашли, почему? Всё сжимается в тебе от предчувствия, всё распахивается от каждой встречи, почему?
Лес…
Сколько времени – не знаешь, только один сплошной вдох внутри. Ноет правая рука с корзиной, ноги начинают противно цепляться за суки. Ты уже сбился со счёта.
Хватит.
Выходя в парное полуденное поле, впервые выдыхаешь.
И бредёшь, тащишься по горячей уже дороге, счастливый.
Поспать бы ещё.
Когда вечером закроешь глаза, замелькают, замелькают: травы, шляпки, шляпки, шляпки… и солнечные зайчики под кустами.
Глава 15. Пастухи
– Ну и зачем ты украл комбайн? Ты мне скажи давай, для чего? – разносился вдоль деревенской улицы ор Люси Пастушихи.
Люсины дети, все трое, были совершенно рыжие. Райка и двое братьев-близнецов, Митька и Лёшка.
В последние советские годы слыли те веснушчатые подростки деревенской бедой, вороватой командой. Отец их был потомственный пастух. Только стадо в деревне перевелось, а отец без работы быстро спился и помер. Но деревенские так и звали всю семью – Пастухи.
Детей растила Люся. Сухая и злобная, с раскосыми глазами, с тонким ртом в циничной ухмылке. Всегда в косынке, повязанной по лбу, над ушами и с узлом на боку. Даже бабы Пастушихи сторонились, не лезли в склоку, закидает же.
Братья-близнецы были смешные, толстые, как два круглых пузыря. Совсем уж одинаковые, с круглыми же бритыми