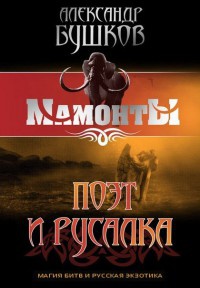Книга НКВД. Война с неведомым - Александр Бушков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отчего-то хозяин дома, где разведчики были на постое ужецелый месяц, им категорически не нравился. В общем, если рассуждать вдумчиво илогично, для подобной неприязни просто не было причин. Словесно враждебности онникогда не высказывал (правда, мадьярского языка они не знали, но тут ведьважны интонации, и мимика), всегда держался с незваными гостями спокойно ировно, ни единого косого взгляда нельзя было припомнить. Каждое утро церемонноздоровался по-своему, пару раз совершенно безвозмездно делал у себя в кузницемелкую починку, которую вовсе не обязан был делать. Иногда опять-таки пособственному побуждению подбрасывал кое-что из провизии в дополнение кармейскому пайку – парочку куриц, кукурузы, крупы, сыру. Держался не просторовно – без малейшего искательства, с достоинством. Таких мужиков, справных,немногословных, не лебезящих перед победителями-славянами, но и не выказывающихвраждебности, в общем полагалось бы уважать: нормальный дядя, правильный…
И тем не менее у всех до единого разведчиков, что былоизвестно совершенно точно, в печенках сидела подспудная неприязнь…
Лейтенант (он же и рассказчик этой истории), свердловчанин снезаконченным высшим, был парнем дотошным, любил во всем непременнодокапываться до истины (быть может, потому именно он и стал заместителемкомандира дивизионной разведроты, хотя имелось немало других кандидатур состоль же серьезными заслугами). Довольно долго он ломал голову, добросовестно истарательно пытаясь понять истоки и корни неприязни к этому самому Миклошу.
И не мог доискаться, почему не только его ребята, но и онсам в душе затаил против кузнеца стойкую недоброжелательность. А это былостранно, весьма…
Не враждебен, не зол, не смотрит исподлобья… Наоборот,вполне лоялен, и не по видимости.
Кулак? Ну, вообще-то да. По советским меркам дядя Миклош былсамым фигуральным кулаком, в Стране Советов давным-давно изничтоженным каккласс: большая кузница с тремя подмастерьями, земли гектаров двадцать(опять-таки с батраками), добротный каменный дом под железом, хозяйство, вкотором только что птичьего молока не было…
Нет, не все так просто. В селе были мадьяры и побогаче, кудатам Миклошу, и среди них попадались субъекты, своих враждебных настроений нескрывавшие вовсе: один при встрече зыркал так, что руки сами тянулись кавтомату, другой (по некоторой информации, в первую мировую воевавший противрусских) окрестил пару своих коней Иваном и Марьей и, проезжая мимоосвободителей, на ломаном русском материл лошадок самыми последними словами,через слово поминая их имена. Третий, опять-таки зыривший волком, любилпровожать солдат непонятными, но, несомненно, обидными песенками.
И так далее. Тем не менее к ним относились как-то иначе. Исовершенно точно знали, за что их не любят, за что с превеликим удовольствиемначистили бы харю…
Порой, когда лейтенант в очередной раз уставал отбесплодного анализа своего и чужого подсознания, ему приходило в голову, чтовиной всему – откровенная, пусть и не сформированная в слова мужская зависть…
Дело в том, что женушка у Миклоша, по стойкому и не развысказывавшемуся вслух между своими убеждению, была ему точно не пара.(Подразумевалось, цинично говоря, что любой из них, молодых и хватких,обстрелянных и сверкавших-бряцавших регалиями, был бы гораздо более уместен подручку с прекрасной кузнечихой, нежели этот старый хрен. Увы, молодежь всегдабывает в подобных рассуждениях довольно безжалостна.)
Кузнецу было лет пятьдесят с лишком, и красавцем его никтоне рискнул бы назвать. А вот жена была более чем наполовину его моложе,красива как-то по-особенному, невинно-беспутно…
(Именно на такой формулировке настаивал лейтенант,растекаясь мыслью по прошлому. Невинно-беспутная красавица. Вообще, он, кромеразных мелких трофеев, принес с войны еще и сохранившееся на всю жизньубеждение, что самые красивые женщины в мире – как раз мадьярки. К сожалению,беда вся в том, что потом произошли события о которых будет рассказано ниже. Илейтенанта всегда передергивало от песни «Вышла мадьярка на берег Дуная» – есликто помнит, в первой половине шестидесятых она была крайне популярна и звучалапо десять раз на дню. Но тем не менее, лейтенант остался при прежнем убеждении:лучше мадьярок, краше мадьярок баб на свете нет…)
Нужно, пожалуй, внести некоторые уточнения.
Дело происходило в начале июля сорок пятого. Войнакончилась, и миллионные вооруженные массы оказались в состоянии самой тягостнойнеопределенности. Умом все понимали, что должна последовать массоваядемобилизация, но писаных решений на этот счет пока что не последовало, вовсяком случае, для наших героев, и, как водится, бродило множестворазнообразнейших слухов, передававшихся со ссылками на надежные источники,излагавшихся с фанатичной уверенностью, что именно так все и обстоит…Настроения того времени отличались ярко выраженной двойственностью: с однойстороны, просто прекрасно было торчать посреди жаркого и красивого мадьярскоголета, зная, что не будет больше ни обстрелов, ни бомбежек, ни атак.С другой же – помянутая неопределенность, когда всех с невероятной силойтянет домой, но ничего толком неизвестно…
Двойственность, одним словом. От которой хочется на стенкулезть и на луну выть.
Командование, конечно, прекрасно эти настроения знало иучитывало, со своей стороны, делая все, чтобы личный состав не погряз в пошлом,расхолаживающем безделье. Как говорится, копали от забора и до обеда. Но всеравно, военные будни – это совсем не то, нежели отсутствие войны…
Лейтенанту и его разведчикам, если честно, приходилосьпохуже, чем обычной дивизионной пехоте. Пехота эта со всеми обычными в такихслучаях ограничениями свободы передвижения размещалась в палаточном лагере задеревней – то есть, в обстановке привычной и, несомненно, аскетической. Разведчикиже, опять-таки в силу специфики ремесла и гораздо большей свободы, стояли покрестьянским домам (вернее, учитывая реалии, по кулацким). С одной стороны,гораздо лучше жить наособицу, своей спаянной бандой в большом и чистом амбаре(а командир, капитан, и вовсе в хозяйском доме, как старший по званию иположению) – теоретически существует и командование, и уставы, а на практикеприсутствует большая доля домашности.
С другой… Нелегко жить на белом свете молодым здоровымпарням со всеми свойственными возрасту побуждениями и желаниями, когда по дворуот светла до темна порхает прекрасная кузнечиха, та самая невинно-беспутнаякрасотка Эржи, от которой зубы сводит и случаются ночные неприятности – черныеволосы, черные глазищи, зубки белоснежные, вышитая блузка белее снега, круглыеколенки из-под полосатой юбки… И ведь, как полагается, прекрасно знает, чтодьявольски хороша, и знает, как на нее смотрят, и как бы невзначай порой такобожжет кокетливым взглядом, так улыбнется якобы в никуда, якобы в пустое пространство…
(К превеликому моему сожалению, историю эту я переносил набумагу лет через двадцать после того, как мне ее рассказали. И я уже не смогупередать то, как лейтенант описывал прекрасную кузнечиху. Совершеннонепередаваемая смесь яростного восхищения с описанием, сделанным самыминецензурными эпитетами. Выражаясь высокопарно, у меня не было ни малейшихсомнений, что лейтенант был поражен в самое сердце – и навсегда. Нужно быловидеть его физиономию… Временами становилось чуточку завидно – потому что вмоей жизни не случилось женщины, способной так впечатлить на всю оставшуюсяжизнь…)