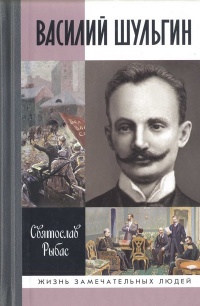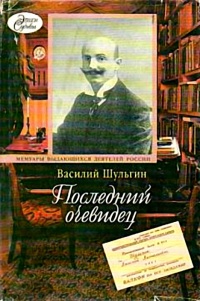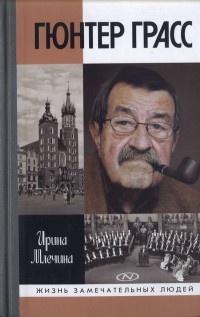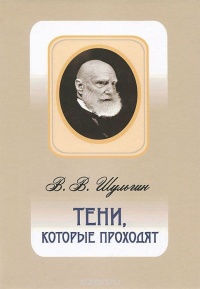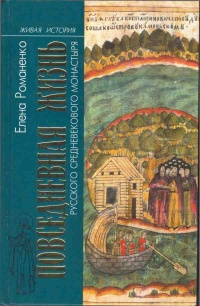Книга Моление о Мирелле - Эушен Шульгин
Читать книгу Моление о Мирелле - Эушен Шульгин полностью.
Шрифт:
-
+
Интервал:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Перейти на страницу:
Книги схожие с книгой «Моление о Мирелле - Эушен Шульгин» от автора - Эушен Шульгин:
Комментарии и отзывы (0) к книге "Моление о Мирелле - Эушен Шульгин"