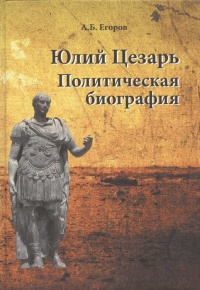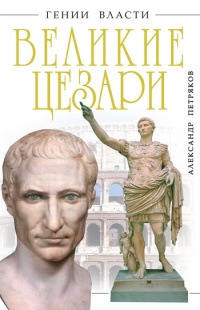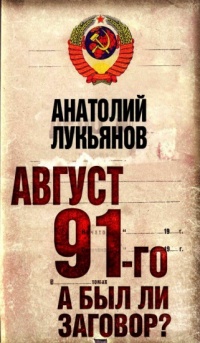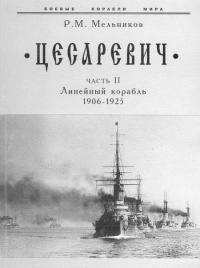Книга День рождения Лукана - Татьяна Александрова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сенека говорил и говорил, а они вместе с Паулиной слушали как завороженные, живо представляя себе картину могучей реки.
– Дядя, а я ведь уже слышал этот рассказ когда-то в детстве, – мечтательно произнес Лукан. – Ты рассказывал почти теми же словами. Мне так хотелось побывать там!
– Ну так еще побываешь! – Сенека сделал широкое движение рукой и откинулся на подушки. – Да, много на свете мест! И сколько ни путешествуй – не насытишься, а в конце концов поймешь, насколько тесен этот мир. Потому что великая и благородная вещь – душа человеческая, и тесны ей земные пределы. В качестве родины ей мало какой-нибудь Кордубы, или Александрии, или даже Рима. Ее границы – все то, что находится внутри всеобъемлющего круга, который охватывает землю и моря. Не мирится душа и с краткостью отпущенного ей срока. А он все равно краток, двадцать лет ты живешь на свете, или сорок, или шестьдесят. Придет последний день – и разделится божественное и человеческое, перемешанное сейчас, и душа оставит тело там, где нашла его, а сама вернется к богам. Она и теперь не чужда им, здесь, в земной темнице. Наша смертная жизнь только пролог к лучшей, вечной жизни, а смерть – это рождение. Сколько ни есть кругом вещей, – все это лишь поклажа на постоялом дворе, где ты задержался мимоездом. То, чем владеешь в жизни, туда не возьмешь. Я имею в виду не только имущество, но и тело. Мы ведь сбросим покров кожи, лишимся плоти и крови, костей и жил. Но тот день, которого ты боишься как последнего, станет днем твоего рождения к вечной жизни. И рождение для тебя уже не будет чем-то новым: ты ведь однажды уже покинул скрывавшее тебя тело. Ты, конечно, будешь мешкать, упираться, – но ведь и тогда тебя вытолкнуло усилие матери. Ты будешь плакать – и в этом ты уподобишься новорожденному. Но только тогда тебе это было более просительно: ведь ты появился неразумным и ничего не знающим, ты едва покинул тепло материнской утробы, как тебя овеял вольный воздух, а потом испугало грубое прикосновение рук – и ты оторопел перед неведомым. А теперь для тебя уже не внове отделяться от того, частью чего ты был – так что сбрасывай это обжитое тело равнодушно! Его рассекут, закопают, уничтожат. О чем тут печалиться? Это дело обычное! Ведь оболочка новорожденных чаще всего гибнет. Зачем любить как свое то, что тебя одевает? Придет день, который сдернет покровы и выведет тебя на свет из мерзкой, зловонной утробы…
Пока Сенека говорил, зашло солнце, и внушительный профиль философа четко чернел на фоне меркнущего неба.
– Ты так прекрасно рассуждаешь, дядя, что мне прямо сейчас захотелось умереть! – воскликнул Лукан. Полла вздрогнула и судорожно схватила его за руку.
– Во как! – засмеялся Сенека. – Прямо из крайности в крайность! То весь затрепетал, узнав про свою болезнь, а то уж прямо готов и в иную жизнь – принимайте! А знаешь, о чем это говорит? О том, что до нового рождения тебе еще зреть и зреть! Про нее-то подумал? – Он указал на Поллу. – Вон она как в тебя вцепилась! Раз она так тебя любит, ты и сам должен больше любить себя. Однако я как проповедник философии определенно делаю успехи! Мне, когда я в юности слушал Аттала, тоже хотелось выйти от него бедняком, но, получается, я его превзошел зажигательностью своей проповеди!
Лукан смущенно опустил голову. Потом, немного помолчав, спросил:
– Дядя, а ты хотя бы записываешь эти свои рассуждения? Ведь то, что ты сейчас произнес, уже просится в трактат!
– Нет, трактатов с меня хватит! – замахал руками Сенека. – Пишешь, пишешь, а потом выясняется, что тот, на кого было рассчитано, не дочитал и до середины. Но это не значит, что все мои мысли рассеиваются в воздухе. Есть у меня один приятель – Луцилий, который сейчас занимает должность прокуратора Сицилии. Мы с ним давно перебрасывались письмами, и вот постепенно эти письма стали приобретать все более и более философический характер. По своим убеждениям Луцилий – последователь учения Эпикура, но не оголтелый, его можно переубедить, а иногда его возражения подталкивают мою мысль в нужном направлении. И теперь я уже так втянулся, что буквально ни дня не провожу без разговора с моим отдаленным собеседником. Ну а диктую письма сразу двум нотариям. Потом одно отсылаю добрейшему Луцилию и жду от него ответа. А второе храню у себя, чтобы доработать. Думаю, что со временем я издам эти письма. Письмо позволяет пишущему больше вольностей и в то же время скорее находит путь к сердцу читающего. Возьми Марка Туллия. Сколь напыщен он бывает в своих речах и философских трактатах, и насколько это живой человек в письмах! Кроме того, есть в этом и еще одно соображение. Кто знает, как повернется моя судьба. Вон в Риме некто уже обвинил меня в причастности к заговору. Еле-еле удалось мне повернуть его оружие в его же сторону. Но что будет завтра? Те мысли о смерти, которые я высказал тебе, возникли совсем не по поводу твоей болезни – я вообще уверен, что тебе они еще нескоро понадобятся. Но для самого себя я должен продумать этот вопрос, тем более что и годы мои клонятся к закату. А что, если этот закат будет омрачен внезапной бурей? Не погибнут ли мои письма вместе со мной? В этом случае у Луцилия они, пожалуй, сохранятся надежнее.
– А ты мог бы диктовать их трем нотариям – на мою долю? – спросил Лукан.
– Почему нет? Одним писцом больше – одним меньше, какая разница.
– Хорошо тебе! – вздохнул Лукан и, обнимая Поллу за плечи, тихо добавил: – А у меня вот теперь всего один-единственный нотарий и слушательница – вот она!
Сенека немного помолчал, а потом произнес медленно и значительно:
– Честь и хвала тебе, Полла Аргентария, что взяла на себя этот труд! Скажу смело, его по достоинству оценят потомки. Он подобен подвигу Марции, спасшей сочинения своего отца, Кремуция Корда… – Сенека внезапно осекся, но потом продолжал: – Да и вообще, что может быть прекраснее того союза, в котором жена поддерживает мужа во всех его начинаниях и не оставляет в превратностях судьбы? Я радуюсь вдвойне, что ваш брак оказался столь счастливым, потому что сам способствовал ему. Твой дед, Полла, был другом моим и всей моей семьи, и теперь я вижу, что в твоих поступках живет и его душа.
Лечение в Байях и продолжительное пребывание в обществе дяди благотворно сказались на здоровье и душевном состоянии Лукана, так что в конце ноября в Город он возвращался заметно окрепшим и в бодром расположении духа. Полла не могла нарадоваться, глядя на него. Но приближение к Нерону, даже чисто пространственное, как всегда, ничего хорошего не сулило. Окрыленный разговорами с дядей, Лукан тут же допустил серьезную ошибку. Он напрямую обратился к принцепсу с просьбой разрешить ему с весенним открытием моря[124] на время уехать в Египет для поправки здоровья и получил неожиданный отказ, возможность которого даже не приходила в голову ни ему самому, ни Сенеке, невольно подтолкнувшему племянника к неверному шагу. Рассыпаясь в притворных выражениях сочувствия и сожаления о его болезни, Нерон тем не менее удержал его, пообещав, что возьмет в Египет вместе с собой, потому что сам давно мечтает посетить житницу империи. Лукан был расстроен, неизвестно чем больше – тем ли, что Нерон его не отпустил, или тем, что решил взять с собой.