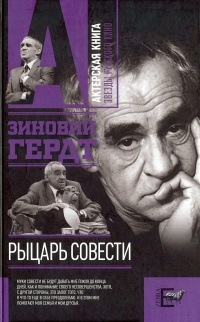Книга «Я был отчаянно провинциален…» - Фёдор Шаляпин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вскоре после его назначения я познакомился с ним, и он вызвал у меня прекрасное, даже скажу светлое чувство глубокой симпатии. Было ясно, что этот человек понимает, любит искусство и готов рыцарски служить ему. Я как-то сразу начал говорить ему о моих мечтах, о том, какой хотел бы я видеть оперу. И эти разговоры кончились тем, что он предложил мне подписать контракт с казенным театром[67]. Мой контракт в частной опере кончался, мне было приятно, что я снова начну служить в императорских театрах, которые дают несравненно более возможностей для широкой работы, для правильной постановки опер. К тому же Теляковский сказал:
— Вот мы все и будем постепенно делать так, как вы найдете нужным!
И я подписал контракт на три года, с окладом 9 тысяч — первый год, 10 — второй, 11 — третий и с неустойкой в 15 тысяч рублей. Но когда начался сезон в частной опере, мне стало невыразимо жалко и товарищей, и С. И. Мамонтова. И вот я снова решил остаться у них, но Теляковский сказал мне, что такие вещи нельзя делать, не уплатив неустойку. Я задумался. Неустойка — неустойкой, а что если меня за каприз мой вышлют из Петербурга или вообще запретят мне петь? При простоте наших отношений к человеку — все возможно!
Однако я все же начал искать у моих состоятельных знакомых 15 тысяч рублей. Все относились ко мне очень любезно, но на грех денег у них не оказалось. Ни у кого не оказалось. Все они как-то сразу обеднели, и с болью в душе я простился с частной оперой[68].
Весной 97-го года я осуществил давно желанную мечту — поехал за границу. Еще в Варшаве мне бросилась в глаза резкая разница со всем тем, что я видел на Руси и что наблюдал теперь.
Конечно, извозчики ругаются везде одинаково, и жандармы, городовые в Польше таковы же, как в Москве, но все-таки на всем здесь лежал отпечаток иной жизни, иных привычек и навыков. Я насторожился, ощущая какое-то приятное беспокойство. От Варшавы поезд помчался со страшной быстротой, мне стало казаться, что сейчас он слетит с рельсов, и я все выходил на площадку, чтобы в случае катастрофы спрыгнуть с нее. Да и удобнее было с площадки смотреть на чужую, густо заселенную землю, на поля, так мало схожие с русскими полями. Здесь все росло густо, мощно, всюду чувствовалась любовная забота человека о своей земле, стояли среди полей каменные сараи, крытые черепицей, дымились трубы фабрик.
Промелькнула мимо меня Вена. Она показалась мне необъятной, а за нею сразу поплыли мимо меня пейзажи, которые я видел только на картинках и которые в действительности показались мне еще чудесней. Мелькали горы, воздушные мосты, сказочные замки, каменные лестницы, и всюду какое-то праздничное благоустройство. Я не спал вплоть до Парижа, три ночи и два дня, с каждым часом чувствуя, что приближаюсь к сказке. Чарующее впечатление оставляли ночные огни фабрик и зарева, колебавшиеся в темных небесах. Наконец, вот он — Париж! Необъятное количество народа на вокзале и около него — ошеломило меня. Потолкавшись среди бойких французов, чувствуя себя вдруг заряженным каким-то весельем, я собрал свои вещи, взял извозчика и поехал по адресу, данному мне Мельниковым: улица Коперника, 40. Было часов шесть утра. Огромные серые дома, бульвары, церкви — все, что я видел, — вдруг показалось мне приятно знакомым, как будто я уже однажды был здесь, и я тотчас же вспомнил прочитанные в отрочестве романы Монтепена, Габорио, Террайля.
Люди в синих блузах и фартуках поливали улицы водою и мыли мостовую щетками, как матросы палубу парохода. Заставить бы их Москву помыть! Или — еще лучше — Астрахань! В улице Коперника извозчик остановился пред маленьким домом в два этажа. На мой звонок вышел человек в белом фартуке и начал говорить со мной по-французски, чудак! Я подробно объяснил ему ногами, руками и всяческой мимикой, что говорить со мною по-французски совершенно бесполезно и что мне нужно видеть Мельникова. Явилась милая старушка, отлично причесанная, просто и очень чисто одетая. Я заметил, что волосы на голове ее сдерживались волосяной же сеткой.
«Ловко сделано!» — подумал я.
Я спросил ее на чистом русском языке — в каком номере живет Мельников? Она поняла меня, показала дверь, и я забарабанил, упрекая товарища:
— Довольно спать! Стыдно спать в Париже!
Мне открыли дверь, и я с радости, что в Париже и могу говорить по-русски — запел. Приятели зажали мне рот, сказав, что все в пансионе спят и орать не полагается. Умываясь, одеваясь, распивая кофе, я страшно торопился, хотелось бежать куда-нибудь, в груди кипело буйное веселье — приятели не пустили меня, сказав, что поведут гулять после завтрака.
Я осмотрелся. Комната была обставлена как-то особенно уютно. Все — чисто, красиво. Камин, над ним зеркало в золотой раме, статуэтки на каминной доске. Должно быть, не дешево стоит эта чистота и простота! Но оказалось, что за комнату с завтраком, кофе, обедом, вином и чаем берут только одиннадцать франков.