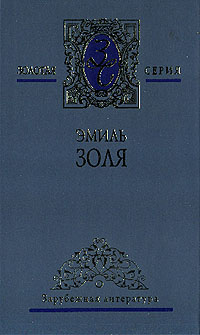Книга Черная месса - Франц Верфель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Голос под маленькими черными усиками звучит нетерпеливо.
Габриель, тоже шепотом, спрашивает старого учителя:
— Этого достаточно? Можно мне теперь сесть? Можно обратно за парту?
Преподаватель катехизиса благосклонно и снисходительно улыбается за ее спиной:
— На этот раз десяти заповедей, английского приветствия[46]и «Отче наш» недостаточно. Инспекция еще не подготовила экзаменационные вопросы. Но ничего не бойся, Габриель Пахер! Я тебе подскажу.
Затем духовное лицо с комической фацией берет Габриель под руку и со старомодным поклоном подводит к ее ухажеру.
— Отчего все мужчины вешают на стул свои подтяжки? Оттого ли, что происходят от обезьян?
Так рассуждает Габриель, ясно различая в этом дешевом гостиничном номере темные разводы на узорах замызганных обоев, ветхие занавески, грязную лампу над бюро. Она ощущает спиной влажно-холодную простыню, которая определенно была не постирана, а только поглажена. Но сегодня она, такая чистюля, не вздрагивает от неприятного прикосновения, она знает: у каждой души — свои сотни тысяч тел… Можно ли все эти сотни тысяч уберечь от грязи?
Голос под маленькими черными усиками улещивает ее:
— Ты такая чистенькая! Как хорошо, что я тебя встретил!
Габриель лежит спокойно. Чего хочет этот чужой, чужой человек?
— Тебе совсем неинтересно узнать мое имя?
Чье имя? Он приближается; изо рта пахнет табаком. Мужское тело надвигается на нее.
Она ничего не чувствует. Она ничего не знает. Она сидит у кроватки маленькой Эрвины.
Ребенок просыпается, моргает и кривит личико.
— Мама! Ты скоро вернешься?
— Но я уже здесь, с тобой, Винерль!
— Нет, ты не здесь, мама!
— Только успокойся, Винерль! Ты хорошо себя вела?
— Нет, мама, я плакала. Я была плохой.
— Почему?
— Потому что тебя нет, мама. Я не хотела кушать.
— Ты всегда надеваешь рубашку, как я тебе наказывала? Сейчас, в ноябре, ты всегда должна ее надевать.
Нащупывая рубашку, мать проверяет, исполняется ли ее поручение. Ребенок начинает плакать.
— Почему ты плачешь, Винерль?
— Мама, мама, мне так страшно, что ты никогда не вернешься!
— Спи, Винерль! Я вернусь, когда узнаю его имя.
Теперь, в темноте, рот в маленьких черных усиках только храпит. Габриель тихо одевается в кровати. Она прислушивается, она дрожит.
— Как вас зовут?
Никакого ответа. Дыхание чужака идет своими путями, недоступными для других. Габриель всю трясет, сердце бешено колотится.
— Как вас зовут?!
Дыхание его прерывается. Жирный язык щелкает и чавкает. И вот это уже не голос чужого человека. Это чеканный, насмешливо уличающий голос, лепечущий в полусне что-то непонятное.
Габриель пулей выскакивает из постели.
— Как вас зовут?!
Каркающий голос наконец отзывается:
— Август!
Одновременно с ужасным криком Габриели зажигается яркий свет.
Покойник поворачивается на ложе. Но это лишь наполовину постель. Огромные комья черной земли скатываются на простыню. Прогнившие деревянные доски лежат поперек кружевного одеяла, бурые листья покрывают подушку, проволочный скелет похоронного венка висит сбоку. Тщетно пытается мертвец высвободиться из тисков могилы, дергая руками и ногами, — только фрак рвется и развевается черными лоскутами. Покойник хрипит:
— Полиция! Воровка! Прелюбодейка! Она украла мой бумажник! Задержите воровку! Погодите же!..
В полном мраке мчится Габриель вниз по сотне извилистых лестниц высокой башни. Рев мертвеца ей вслед:
— Держите ее!
Функция тайной полиции — не обезвредить и арестовать подозреваемого, а, по высочайшему распоряжению, вести с ним рискованную и непредсказуемую игру. Тайная полиция не подсылает к обвиняемому служащих в форме или агентов в цивильном. Она довольствуется тем, что осуществляет свою власть особыми способами, и с непредумышленными намерениями иногда приближается к объекту, а чаще всего держится от него на почтительном расстоянии. Во всяком случае, Габриель и все остальные пользовались неограниченной свободой действий.
Так что непонятно, почему она с такой настойчивостью гонит жизнь из своей плоти. Вероятно, она лишь подражает своим товарищам по несчастью. Ведь рядом с ними бежит она размеренной рысцой, невидимая в ночи. Она не прочь познакомиться со своими приятелями. Но в скачке рысью темной ночью нет ничего приятного. Бегут в заброшенные рудники, тоннели и шахты метрополитена. Бегут лишь потому, что бег — единственная форма жизни, а затормозить и остановиться никому бы не удалось. Среди попутчиков — немало женственного. Это успокаивает Габриель. Она радуется свежему воздуху.
Товарищи где-то теряются. Габриель бежит теперь одна. Она чувствует себя такой свободной, но в глубине души знает, что каждый ее шаг, каждое мгновение свободы предопределены. Все, что встречается на пути, подозревает она, — череда ловушек, поставленных нарочно, чтобы способствовать ее падению.
Она мчится по дамбе какого-то зачумленного канала. Она видит, как несколько мужчин при свете вонючей карбидной лампы пытаются вернуть к жизни утонувшую женщину. Габриель догадывается, что в этой утопленнице скрывается одно из ее тел, что это отказывается от самой себя ее собственная судьба. Горькое, почти непреодолимое желание охватывает ее — посмотреть покойнице в лицо. Но ее подозрительность тотчас подсказывает: это ловушка! Она бежит дальше.
В следующее мгновение она слышит за собой короткие прерывистые вздохи, одновременно ритмично звякает ожерелье, подскакивающее на бегу. Она сразу понимает: бедный ребенок!
Дитя плачет:
— Помогите, милая дама! Я не могу попасть домой. Мама больше не вернется!
Мучительное искушение взять ребенка на руки властно охватывает Габриель. Но она противится всеми силами. Ведь и это — только ловушка.
Издалека, на покрытой песком и лужами болотистой равнине, коя только благодаря густому кустарнику не превратилась еще в трясину, кто-то воет, жалобно стонет и звенит колокольчиком. Теперь это, вероятно, Амур.
Сколько еще будет длиться это бегство — снова и снова по покатым улицам, опасным перекресткам, скрещеньям железнодорожных путей, где с обеих сторон грохочут локомотивы? Затем — равнина, пашни и луга прорезаны полосами паров. Ничто не пребывает в покое, все — в неустанном движении, будто весь мир — ленивое и бессмысленное бегство от еще более бессмысленного преследования.