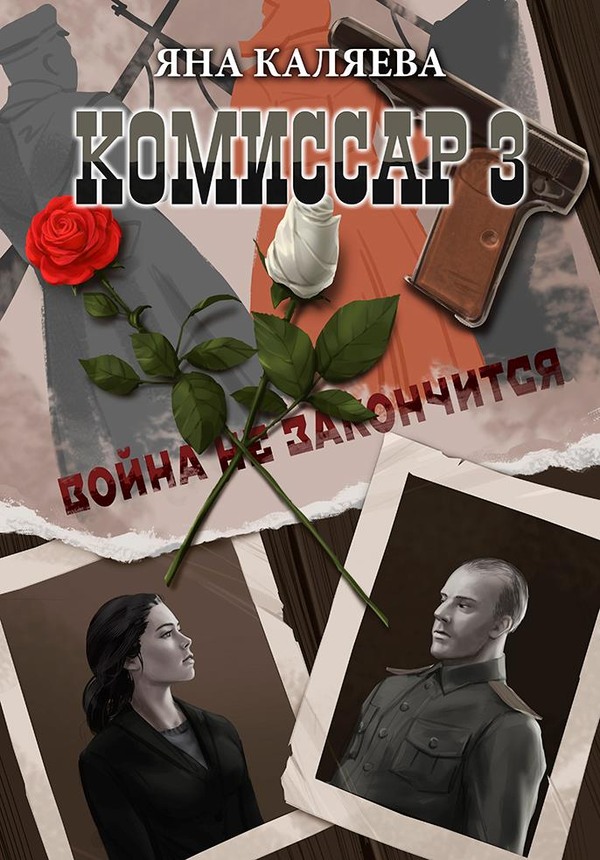Книга 1000 лет радостей и печалей - Ай Вэйвэй
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Чувство дома одинаково важно как для богатых, так и для бедных, и я чувствовал себя своим среди грязи, бардака и упадка Нижнего Манхэттена. Думаю, окажись я в квартире на Парк-авеню, сразу бы умер от тоски. Я перенимал опыт у старожилов Нью-Йорка, таких практичных и бдительных. В метро я старался ни с кем не встречаться взглядом, а когда шел по улице, то никогда не замедлялся, как механическое устройство, которое трудно будет завести заново, если оно остановится. Я запирал дверь за замок, как только входил домой, и никогда не открывал, если в нее звонили. Иногда у меня бывали подработки, но в остальное время у меня не было четкого расписания, и я мог делать что угодно. Надев зеленую солдатскую форму или армейский ватник, я бродил по улицам, когда моей душе было угодно.
Пусть жители моего района порой походили на вампиров с безумными глазами, я все же нервничал, когда приходилось покидать его пределы. Я записался на курс Лиги студентов-художников Нью-Йорка на Западной 57-й улице, но, если бы мне не требовался формальный статус для продления визы, я бы предпочел не бывать в той части Манхэттена. У этой школы была долгая и славная история и, что наиболее важно, — гибкая система оплаты, то есть деньги можно было вносить частями по ходу учебы, а не за весь год вперед. В сравнении со Школой Парсонса эта выглядела убого, что не помешало ей, однако, воспитать нескольких выдающихся художников.
Моему преподавателю Ричарду Пузетт-Дарту, весьма многогранному художнику, было тогда лет под семьдесят. Никому бы и в голову не пришло, что в свое время он принадлежал кругу Джексона Поллока, но он все еще оставался активным членом этого легендарного поколения нью-йоркских художников, и одна из его ранних картин висела в Метрополитен-музее. Возможность соприкоснуться с живой частью истории заряжала меня энергией. Пузетт-Дарт всегда поощрял меня продолжать делать то, что делаю. Но я знал, что живопись — это не мое. Я был там просто потому, что не нашел чего-то более подходящего.
Иногда я болтался по галереям, и, как бы меня ни озадачивали выставленные там работы, я приучился не делать поспешных выводов и отдавать им должное — так я прививал себе терпение и культуру. А бывало и так, что моя голова была полна праздных дум, и я не знал, чем себя занять, так что выходил из дома без особой цели и просто шел куда глаза глядят.
Я устроился работать в ночную смену в типографии на углу Западной 13-й улицы и 10-й авеню. Здесь, в районе Митпэкинг, бойни и мясные производства уже стали закрываться, но запах крови все еще витал в воздухе. Использованные деревянные палеты стопкой складывали на тротуаре, и зимой бездомные собирали их, бросали в старые металлические бочки и поджигали. Они стояли вокруг костров, пили и болтали, а огонь подсвечивал их лица красным. По пути на работу я в вечерних сумерках проходил мимо с неизменной коробкой пончиков в руке, которые жевал с нескрываемым удовольствием.
Глазея на книги на нижнем этаже книжного магазина Strand на Бродвее, я однажды нашел в самом дальнем углу книгу под названием «Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)»[32] с подписью самого Энди на форзаце. Эта книга стала первой, которую я прочел на английском от корки до корки; ее лаконичный язык очень напоминает сегодняшние посты в Twitter. И мой восторг от книги отчасти объяснялся удовольствием от чтения, а отчасти воображаемой мной картиной радости, которую испытаю в один прекрасный день, когда постигну ее суть. Моя привязанность к этой книге была сродни неразлучности кенийца с палкой, который не выпускает ее из рук ни во время ходьбы, ни во время танца. Я купил несколько экземпляров одного и того же издания с одинаковой обложкой, и чтение книги уподоблялось религиозному обряду, особенно если учесть, что я не все понимал. Если бы я смог понять ее полностью, усвоенные знания сразу же наверняка испарились бы.
Со временем меня выгнали и из Лиги студентов-художников, в результате я потерял статус студента и, как каждый седьмой житель Нью-Йорка, стал нелегалом. Сначала это потрясло меня, но вскоре я стал смотреть на вещи спокойнее, так как знал, что нечто подобное должно было случиться, учитывая мою упорную склонность пускать все на самотек. Я принял свои трудности как цену свободы или даже знак этой свободы, и, пока у меня в холодильнике была пачка молока, чувствовал себя в безопасности.
Для меня, словно для муравья на большом дереве, не стоял вопрос выживания, а Нью-Йорк был не просто большим деревом, это был целый лес, который тянулся, сколько хватало взгляда. Я мог исчезнуть в этом городе, никем не узнанный и не замеченный, и любил я его именно за это. В те времена свобода для меня означала просто отсутствие переживаний и ответственности. Когда весь мир о тебе забыл, легко быть беззаботным.
В 1980-х годах район Ист-Виллидж захлестнула волна современного искусства, и бунтарские граффити Кита Харинга и Жан-Мишеля Баскиа привлекали всеобщее внимание. В галерее International With Monument неподалеку от моего дома выставили три аквариума, и лампы освещали плавающие в них баскетбольные мячи. Выглядело впечатляюще, но стоимость произведения в несколько раз превышала размер годовой аренды моей квартиры. В то же время рядом с продуваемой всеми ветрами парковкой возле Купер-Юнион[33] можно было встретить высокого, тощего художника, закутанного в шерстяное пальто, который продавал разложенные у него в ногах снежные шары.
В Нью-Йорке были десятки тысяч художников, но лишь несколько десятков из них зарабатывали деньги. Для некоторой группы людей искусство превратилось в объект спекуляции, в гонку за очередной новинкой. Искусство уже давно было предметом потребления, украшением в угоду вкусам богачей, и оно неизбежно деградировало под давлением рынка. По мере роста денежного эквивалента произведений искусства их духовная составляющая убывает, и искусство становится не более чем инвестиционным активом, финансовым продуктом.
В галерее Мэри Бун на Западном Бродвее можно было полюбоваться работами Эрика Фишля — африканскими женщинами и мальчишками, играющими на пляже; политическими высказываниями-слоганами Барбары Крюгер и гигантскими полотнами Джулиана Штабеля, которые