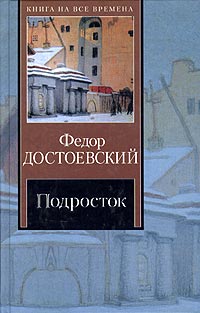Книга Избранное - Иоганнес Бобровский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Видите ли, поскольку это не в моей деревне, то я не возражаю, да и господин суперинтендант разделяет мою точку зрения. А что баптисты все же люди порядочные, тому вы первое доказательство.
Но это не устраивает дедушку, на этом далеко не уедешь, так дела не делаются. Мой дедушка и говорит:
— Очень приятно и любезно с вашей стороны, господин пастор, все мы люди-человеки, все в бога веруем, но только у каждого из нас свой горшок в печи.
И тут он, пожалуй, прав. Как подумаешь о плачевном разброде в церкви: здесь, в Малькене, евангелисты, они даже не знаются друг с другом; в Неймюле — баптисты, те хоть друг с другом знаются; на неймюльских выселках — адвентисты, те тоже, у всего, как поглядишь, две стороны, в Тшанеке — субботники, в Ковалеве и Рогове методисты, а в сторону Розенберга тянутся меннонитские деревни, ну, да это много дальше.
— Однако же, — говорит дедушка, он уже, кажется, готов запродать баптистов Глинскому — из чистейшего благочестия, разумеется. Он-то готов, а вот пасторша нет, она решительно против.
Тут она вмешивается, потому что сама из хорошей семьи, да и голос у нее зычный, отпивает еще глоток, с маху ставит чашку на стол и хватается за волосы, так как новая фальшивая коса никак не обживется в ее прическе и выталкивает шпильки из волос.
— Нет, господин мельник, — говорит она, — этого вы не должны желать, это вызовет пущий разлад.
— Высочайшая фамилия нашего возлюбленного кайзера… — вставляет кабатчик Пальм, он в семидесятом году две недели участвовал в войне, в холерном бараке ведра таскал.
— Вот именно, — говорит дедушка, — с нашим возлюбленным кайзером во главе.
— Вот именно, — вторит им Глинский, — высочайшая фамилия нашего возлюбленного кайзера и наш возлюбленный кайзер, этот прославленный герой, недавно изданным законом о репатриации и законами о землях от девятого марта…
— Поистине, — подтверждает фрау пасторша и поднимает вверх свой необычайно прямой носик и вертит в руках золотые часики, висящие на длинной цепочке, — он довел дело нашего доктора Мартина Лютера до лучезарного завершения.
— Вот видите, — говорит мой дедушка.
— Но, господа, — вступает в беседу Глинский, — это ведь направлено против римского престола, нашего врага, и следовательно…
— Против поляков, — заключает дедушка.
— Если вы это имеете в виду, — говорит Глинский, — то вы совершенно правы. Окруженные со всех сторон глубоко чуждой нам нацией…
Наконец-то, думает дедушка, он запел по-моему. У Виллюна на другом конце стола покраснели уши.
— Это он надолго, — говорит он своему визави Тетмайеру, откидывается на стуле и складывает руки на коленях.
Тетмайер скривил гримасу и шепчет:
— Аллилуйя! — и тут же, сделав обычное свое лицо, говорит: — Поехали, с богом!
Здесь предполагалась одна из истинно немецких речей Глинского.
Но тут как раз открылась дверь, и на пороге показался Хабеданк с черной шапкой в руке и черным скрипичным футляром под мышкой — кабы не это, не миновать бы нам прослушать уррра-патриотическую речь. Ах, Хабеданк, до чего же удачно тебя принесло, для тебя еще найдется чашка кофею.
— Добрый вечер честной компании! — говорит Хабеданк.
На что жена Густава:
— Добрый вечер, господин Хабеданк!
А Тетмайер, повернувшись к двери:
— Бандуру свою приволок?
— А что? Разве пять пробило? — вскидывается Виллюн.
Во всяком случае, он уже знает, куда я гну, этот священник, думает про себя дедушка. Отзову-ка я его в сторонку, сядем с ним за тот круглый стол, парочка сигар да рюмки три водки.
— Что вы на это скажете, господин пастор?
— Ах да, — говорит Глинский, — мы ведь с вами уже толковали вчера, но только в общих чертах. Так вот, Натали, у нас предстоит небольшой разговор, может быть, и ты к нам присядешь?
И Натали присаживается. Зато Кристине что-то срочно понадобилось в кухне, должно быть, вымыть стаканы. Тем лучше, думает дедушка, она еще что-нибудь ни к селу ни к городу ляпнет из библии.
Итак, единая святая христианская церковь. Фрау пасторша тем самым возвращается к давешнему разговору и добавляет: «Эти свиньи», — по адресу католиков, заслуживающих всякого сожаления, а тем более поляков.
Глинский берет сигару, да и дедушка от него не отстает, он тоже берет сигару и откусывает кончик; пестрое бумажное колечко, которое Глинский, разумеется, оставляет на сигаре, дедушка надевает на мизинец левой руки, между тем как Натали не перестает рассуждать.
Неисчерпаемая тема. Тем более что от нее то и дело отвлекаются. Неисчерпаемое красноречие, тем более что применение ему находится только в кухне и во дворе, но не в церкви, даром что мы пасторская супруга. Глинскому, наоборот, разрешается говорить только с амвона, а также в особо важных случаях, в доме же и во дворе он лишен права голоса. Однако дедушка, как баптист и старейшина, ближе к истинному христианству, к освященному от века mulier taceat[30] и, стало быть, к истинному пониманию Книги Бытия, глава третья, а потому он говорит:
— Известно ли вам, господин пастор, почему Адам был изгнан из рая?
— Кто же этого не знает? Даже странно с вашей стороны задавать мужу такие вопросы, — удивляется Натали Глинская.
— Скажите, ежели не секрет, — говорит дедушка ласково, — что вы имеете в виду.
Госпоже пасторше достоверно известно: все у них там произошло из-за плодов, не из-за каких-то яблок, как обычно говорятся, а из-за плодов с древа познания.
Но дедушка больше в курсе.
— А вы бы лишний раз почитали библию. Там ясно сказано: Адам был изгнан из рая… — тут он выдерживает небольшую паузу и продолжает, повысив голос, — за то, что послушался голоса жены своей.
Что же теперь делать Глинскому? Что ему сказать на это? Пусть только хорошенько подумает. Вот они сидят за длинным столом: чета Пальмов, старый Фагин, Тетмайер и, натурально, Виллюн с Хабеданком, а ведь дедушка говорил достаточно громко. Так как же, супруг Глинский, что ты на это скажешь?
И Глинский — хочешь не хочешь — отваживается на смешок, на этакий полузадушенный смешок. Оно и в самом деле забавно. Хоть, пожалуй, немного и беззастенчиво. На фрау пасторшу поначалу находит столбняк. И хоть мой дедушка смеется, остальные не смеются, и только Тетмайер замечает сентенциозно:
— Век живи, век учись.
Но кто, собственно, должен учиться? Мой дедушка считает, что Глинский. По крайней мере, на ближайшие полтора часа. Разговор у них пойдет без дураков. Мой дедушка намерен выложить — коротко и