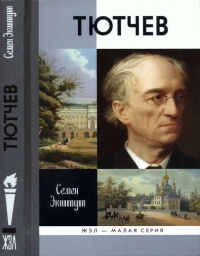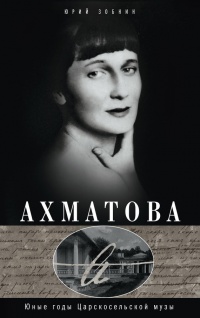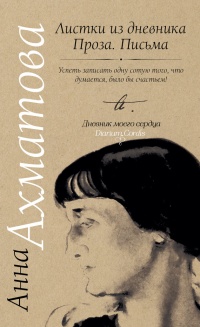Книга Юрий Трифонов - Семен Экштут
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Под «карету истории» попала не только семья цареубийцы Желябова. Её колёсами была без всяких сантиментов раздавлена просвещённая семья доктора и доцента Харьковского университета Осипа Семёновича Сыцянко. Доктор Сыцянко, на десятилетия опередивший своё время, занимался электротерапией и содержал электролечебное заведение. Консервативная публика отнеслась к его методам лечения настороженно, и доктор никак не мог свести концы с концами. Он был человеком передовых взглядов, в его доме всегда было много молодёжи, товарищей его детей. Его сын Александр, оказавшийся на периферии революционного движения, согласился спрятать в принадлежащем отцу флигеле орудия неудавшегося покушения на Александра II: бур, батарею, спираль, кинжалы, револьверы, провод. Через три дня в дом пришли с обыском. О том, что произошло дальше, автор говорит от лица Александра Сыцянко. Так в «Нетерпении» появляется «ещё один забытый голос»: «И всё покатилось, всё рухнуло, жизнь наша переломилась навсегда. Арестовали отца, меня, сестёр, всех наших по очереди… Год нас терзали. Сначала держались бодро, потом стали выбалтывать. И даже кузенов притянули к следствию, мальчишек, запугали до слёз, и они тоже выложили всё, что знали… Семнадцать лет! Сначала Верхоленский округ, потом Киренский, потом опять Верхоленский. Отец был оправдан, но не вынес горя и вскоре умер. Сестра Маша поехала за мной в Сибирь»[226]. На этом хождение по мукам Александра Сыцянко не закончилось: в феврале 1898 года он, после отбытия наказания примкнувший к эсерам и вновь арестованный, повесился в своей одиночной камере, не выдержав подозрения в предательстве, инспирированного полицией. Кто сосчитает точное число подобных жертв?! Взаимная нетерпимость привела к тому, что в огне взаимного истребления бесцельно сгорали люди, которые могли стать той самой новой Россией, которую они так нетерпеливо жаждали увидеть.
На страницах «Нетерпения» звучат голоса не только пламенных революционеров или их антагонистов, что было делом вполне обычным для советского исторического романа, но раздаются и голоса тех, кого принципиально предпочитали не замечать шестидесятники как XIX, так и XX столетий. Ни для тех, ни для других шестидесятников обыватель просто не существовал. Они его презирали и осуждали, не утруждая себя пониманием его точки зрения. Само это слово «обыватель» и его синонимы «мешанин» и «филистер» всегда употреблялись исключительно в пренебрежительном контексте. Трифонов был единственным советским писателем, осмелившимся пойти против сложившейся в русской культуре традиции и запечатлеть обывательский взгляд на события, который под его пером предстаёт как взгляд людей, претерпевающих историю и осознанно не желающих попасть в число её жертв.
Судя по всему, Юрий Валентинович был хорошо знаком с текстом Нобелевской лекции, прочитанной Альбером Камю 10 декабря 1957 года в Стокгольме, и сознательно действовал в соответствии с изложенными в лекции принципами: «…Роль писателя неотделима от тяжких человеческих обязанностей. Он, по определению, не может сегодня быть слугою тех, кто делает историю, — напротив, он на службе у тех, кто её претерпевает. В противном случае ему грозят одиночество и отлучение от искусства. И всем армиям тирании с их миллионами воинов не под силу будет вырвать его из ада одиночества, даже если — особенно если — он согласится идти с ними в ногу. Поскольку призвание художника состоит в том, чтобы объединить возможно большее число людей, оно не может зиждиться на лжи и рабстве, которые повсюду, где они царят, лишь множат одиночества. Каковы бы ни были личные слабости писателя, благородство нашего ремесла вечно будет основываться на двух трудновыполнимых обязательствах — отказе лгать о том, что знаешь, и сопротивлении гнёту»[227]. Возможности легального сопротивления гнёту в СССР были сужены до предела. Трифонов отказался лгать о том, что он хорошо знал.
Шестидесятники XX века обывателя игнорировали, а советская идеология его осуждала. Обывателем называли человека с ограниченным кругозором, живущего мелкими, личными интересами. Такова была точка зрения официальной идеологии. Каковы же были эти мелкие, личные интересы?
Один из персонажей «Нетерпения», хороший, хотя и жадный врач-немец, хочет лишь одного — быть спокойным за собственную безопасность и безопасность своей семьи в переполненной революционерами Одессе. Противостояние власти и революционного подполья достигло апогея. Судят революционера Ивана Ковальского, во время ареста оказавшего вооружённое сопротивление, приговаривают к смертной казни. В это время его товарищи съезжаются в Одессу и готовятся поднять в городе восстание, чтобы помешать исполнению казни. «Знакомая доктора видела своими глазами, как с вокзала по Старопортофранковской шла целая толпа приезжих революционеров, они все были вооружены, по нескольку кинжалов и револьверов у каждого»[228]. Власть не дремлет и вводит в город войска, «три роты башкир и казачий полк»[229]. Дальнейшие события мы видим глазами доктора. «Крики, стрельба! Он запретил домочадцам два дня выходить на улицу. Всё-таки русская революция немножко wild und barbarisch (дикая и варварская. — нем.): эти разбойники с кинжалами, дети на баррикадах, казаки со своими длинными пиками. Убить невинного человека ничего не стоит. Два дня сидели дома, дрожали от страха, питались сыром и печеньем, это было мучительно. Страна, которая не может обеспечить покой своим гражданам, не имеет права причислять себя к европейским странам»[230].
Можно легко осудить доктора за узость взгляда. Но при каких обстоятельствах он произносит свою тираду! Несмотря на беспорядки в городе, доктор не стал уклоняться от исполнения своего профессионального долга и по жаре отправился на дальний хутор, чтобы оказать помощь умирающей женщине. Он даже не догадывался, что умирающая от чахотки женщина, её муж и их гость Андрей Желябов имеют непосредственное отношение к революционному подполью. Ковальский был публично расстрелян, а уже через день революционеры нанесли ответный удар: Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский среди бела дня на Михайловской площади в центре Петербурга заколол кинжалом шефа жандармов генерал-адъютанта Николая Владимировича Мезенцева. Террорист благополучно скрылся с места преступления, нелегально эмигрировал, обосновался в Швейцарии и выпустил там памфлет «Смерть за смерть», в котором попытался теоретически обосновать право революционной партии на антиправительственный террор: «До тех же пор, пока вы будете упорствовать в сохранении теперешнего дикого бесправия, наш тайный суд, как меч Дамокла, будет вечно висеть над вашими головами, и смерть будет служить ответом на каждую вашу свирепость против нас».
Андрей Желябов считал себя вправе принести в жертву не только самого себя, но и своих близких. Если его тесть Яхненко предпочитал вести с зятем идейные споры о будущем России, не переходя на личности, то тёща Желябова вела себя иначе. И читатели «Нетерпения» получили возможность посмотреть на события её глазами: «Они семьи заводят, а жить семейно не могут. Разве это честно? Детей народят, и детьми не интересуются, не видят их месяцами, — дрожащим голосом, но всё более громко говорила тёща. — Деньги в дом не носят, трудиться не хотят и близких своих делают несчастными… Я проклинаю этих людей! Проклинаю, проклинаю!»[231] Подобный взгляд на людей, претерпевающих историю, шёл вразрез не только с системой ценностей шестидесятников, но и с советской идеологией. Однако новаторство Юрия Трифонова не было замечено, понято и оценено его современниками. Они не смогли дочерпать до дна всю глубину романа.