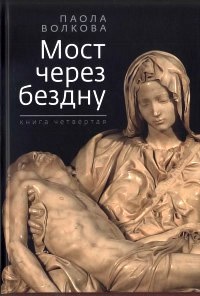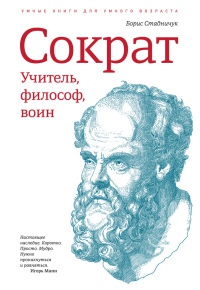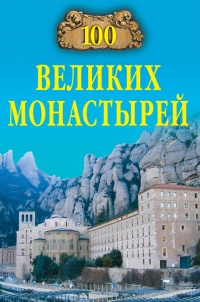Книга Унесенные за горизонт - Раиса Кузнецова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
― Нет, что вы, охотно!
Мы встретились на его этаже, спустились вниз и вместе с другими приглашенными сели в поданные для нас командованием порта автобусы.
В этот вечер пароход «Сибиряков» гостеприимно распахнул свои кают-компании и палубы. Гремела музыка; под разноцветными фонариками, тесно прижавшись друг к другу, уже кружились пары. Мы тут же включились в этот водоворот. Станислав прижал меня к себе и прошептал:
― Не обижайтесь, я мечтаю побыть с вами не в толпе, не на улице, а где-нибудь в тиши, наедине. Могу я надеяться?
Я опустила глаза. «Если не достанут билета, я погибла, ведь уступлю!» И вдруг увидела, как, расталкивая танцующих, ко мне пробирается экспедитор. В высоко поднятой руке он держал билет и плацкарту.
― Еле вас разыскал, ― пытаясь овладеть дыханием, сказал он, ― торопитесь, поезд уходит в двенадцать ночи, а вам, наверное, еще в гостиницу надо?
― Спасибо, ― я взяла билет, ― сейчас же еду!
― Как?! ― воскликнул Станислав. ― Вы уезжаете?
― Я забыла, что срок командировки окончился, ― солгала я.
― Я вас провожу!
― Не стоит, продолжайте веселиться.
― Нет, нет, я должен!
― Это вызовет только ненужные толки!
Но он упрямо пробирался со мной к выходу. Тогда, в каком-то узком корабельном коридоре, я крепко его поцеловала и бросилась бежать. Навстречу попался Юзефович ― сослалась на болезнь ребенка. Он посочувствовал, дал машину, и через два часа я сидела в поезде, а сердце колотилось, как у воришки, который чудом избежал разоблачения.
Арося, выслушав мою горячую исповедь, в которой я, конечно, опускала многие детали, переменился в лице. Я испугалась.
― Любимый! Но я же убежала, у нас все в порядке!
― Ты делаешь мне больно, ― тихо сказал он.
― Ах! Лучше бы я не рассказывала тебе ничего!
― Нет! ― закричал Арося, ― мы должны говорить друг другу все! Понимаешь, дело не в том, что ты понравилась ему... страшно, что ты увлеклась им... Ты понимаешь, как это больно?
― Да, да, ― расплакалась я, ― ну, прости меня!
― Я больше не буду, ― мрачно передразнил он. Но тут же принес мне воды, напоил и успокаивал, пока я не перестала плакать.
Больше мы к этой истории не возвращались[38].
Во время моих командировок Арося вынужден был домовничать и довольствоваться письмами, в которых я старалась смягчить горечь наших разлук, не унывал и много работал ― выступал на радио, куски из истории Раменской фабрики публиковала фабричная газета.
Хотя это было непросто: наши соседи только одним своим видом могли погубить даже творческий гений Пушкина, Лермонтова и Боратынского разом, окажись они в этой квартире. Николай ― мелкий, с синеватыми мокрыми губами и откушенной мочкой уха, ходил босой, в синей майке и засаленных галифе, пугая огромными желтыми ногтями на ногах; Ольга ― крупная, крашенная хною, с вечно розовыми от помады зубами, важно фланировала в красном шелковом халате с протертыми подмышками, из которого все время норовила вывалиться огромная потная грудь. Они любили закусывать хамсой, и в проходной комнате всегда пахло протухшей рыбой
По моему настоянию Арося решился, наконец, предложить цикл своих стихов журналу «Новый мир», где отдел поэзии вел Эдуард Багрицкий. И вскоре от поэта последовало приглашение прийти к нему для разговора, но не в редакцию, а на квартиру: поэт был болен. Жил он в двух шагах от Столешникова, в проезде МХАТа. Эта встреча потрясла Аросю; захлебываясь от восторга и волнения, он в деталях воспроизвел обстановку, облик поэта и его суждения ― о поэзии вообще и о стихах Ароси в частности ― так ярко, что мне стало казаться, будто я видела все своими глазами.
За стеклами множества аквариумов, мягко подсвеченные, бесшумно сновали разноцветные рыбы. Поэт, в расстегнутой белой рубахе, сидел в постели и показался Аросе великаном. Говорил он с трудом; порою речь его прерывалась астматическим удушьем ― тогда поэт сбрасывал одеяло и закуривал стеклянную трубку, дымок из которой пах ментолом. Каждый раз, когда начинался приступ, Арося приподнимался, чтобы уйти, но Багрицкий удерживал его большой, взмокшей горячим потом рукой и успокаивал: «Сейчас, сейчас, мой друг, все пройдет... А нам надо поговорить как следует. Не стесняйтесь!» Приступ проходил, и поэт снова увлеченно говорил своему начинающему коллеге о законах поэтического творчества, о необходимости сочетать новое содержание с новой формой, не подменяя ее, однако, трюкачеством и украшательством. Почти все стихотворения Ароси, предложенные им в «Новый мир», он одобрил и на каждом из них начертал свое добро для публикации.
16 февраля[39] 34 года ― не прошло и двух месяцев после встречи ― Багрицкий умер. Как будто какой-то рок преследовал произведения Ароси! Потрясенный этой смертью, он долго не мог оправиться. Наконец пришел к М. Зенкевичу, заменившему Э. Багрицкого в отделе поэзии журнала. Тот заверил, что если стихотворения, подписанные к печати умершим поэтом, найдутся, их обязательно напечатают. Когда Арося вновь появился в редакции, Зенкевич сказал, что рукопись с подписью Багрицкого потерялась, и предложил принести копии. Они у Ароси были с собой; сгоряча он их оставил, не подумав, что это последние экземпляры. Зенкевич предложил «позванивать». Телефонные переговоры были кратки и однообразны: «Еще не дошли руки». Арося плюнул и звонить перестал. Я все же настояла, чтобы он переступил через гордость и снова сходил в редакцию. М. Зенкевич на этот раз встретил неприветливо, сказал, что стихи не подошли, а когда Арося потребовал назад рукопись, сказал, что «самотек» не возвращается. Совершенно убитый этим хамством, Арося вновь надолго охладел к попыткам что либо напечатать, хотя стихи сочинять продолжал ― даже на ходу.
― Я бы не хотел заниматься этим, ― говорил он мне, ― но строчки сами складываются.
― Это очень хорошо! ― старалась я поддержать его. ― Страшно, что ты забываешься, когда идешь по улице! Ты что, забыл о Блюме?
В 1934 году наше семейство наконец приступило к строительству собственного дома. Я помогала деньгами, Алексей и Сима ― трудом. Дом нужен был срочно: у отца случился конфликт с начальством, и квартиру, которую наша семья занимала с 1905 года, потребовали освободить. Насмарку пошла 30-летняя служба отца на железной дороге, и только из-за того, что без согласия начальника он вместо себя оставил на работе сменщика. Отец мог бы обжаловать это наказание в суде, но хохлацкая гордость мешала. Оскорбленный до глубины души, он заболел «грудной жабой». Теперь у него была одна мечта ― поскорей построить свою хату и уйти на пенсию, чтобы жить огородом, коровой и помощью детей.