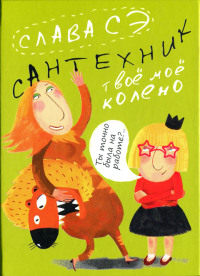Книга Спортивный журналист - Ричард Форд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Ох, разве можно их не любить? – спрашивает Викки, она сидит в кресле скрестив ноги, курит и вглядывается в яркий экран, словно в красочный мир грез.
– Чудесно, – отзываюсь я.
– Иногда мне так хочется быть ею, – говорит Викки, выпуская уголком рта дым. – Правда. Старина Рэнди…
Я отворачиваюсь, закрываю глаза и стараюсь уснуть, пока шумят аплодисменты, а снаружи на холодных детройтских улицах завывают в ночи новые сирены. И на миг незнание того, что будет дальше, представляется мне простым и приятным – как будто сирены не спят в ночи только ради меня.
Снег. Ко времени, когда я вылезаю из постели, одеяло мягкой, упавшей с неба белизны застилает бетонные берега реки от «Кобо» до «Ренессанс-Центра», а сама она плавно течет, отливая под золоченным мичиганским небом неприятным кофейным цветом. Вот вам и вся игра света и цвета. Весна внезапно сгинула, пришла зима. Уверен, завтра такая же погода установится в Нью-Джерси (в этих делах мы следуем за Средним Западом, отставая от него на сутки), хотя здесь к тому времени потеплеет и снег растает. Если тебе не нравится погода, пережди минут десять.
Черно-крепдешиновая Викки крепко спит, и, хотя меня подмывает разбудить ее и завести «разговор по душам», я думаю, что прошлой ночью мы наговорили лишнего и теперь мне следует просто подчеркивать оптимизм по поводу «нас двоих». Разговоры могут и подождать.
Я торопливо принимаю душ, одеваюсь, рассовываю по карманам блокноты, магнитофончик и устремляюсь к завтраку и к Уоллед-Лейк, оставив на прикроватной тумбочке записку, сообщающую, что вернусь к полудню и пусть Викки посмотрит пока кино по кабелю и закажет в номер основательный завтрак.
Обстановка в вестибюле «Пончартрейна» приятная, утомленно-чувственная, субботняя, несмотря на свежий снег – «прибабахнутый», по общему мнению посыльных отеля, уверяющих, что после полудня от него и следа не останется (тем не менее к портье выстроилась очередь постояльцев, желающих выписаться и ехать в аэропорт). Чернокожая девушка в журнальном киоске, у которой я покупаю «Фри-Пресс», широко улыбается мне и зевает. «Надо было еще покемарить», – говорит она с притворным акцентом и хихикает. На стойке есть и мой журнал со статьей о всплеске интереса мексиканцев к синхронному плаванию – написал ее я, но весь материал собран персоналом журнала. Меня охватывает искушение сказать об этом девушке – так, мимоходом, – однако я отправляюсь завтракать. Усевшись в «Средиземноморском» зале, я заказываю два яйца-пашот, гренок без масла, сок, прошу официанта поспешить и просматриваю новости Восточного дивизиона Американской лиги – кто из хорошо показавших себя в начале сезона игроков понемногу сбавляет обороты, а кого на краткий срок переводят в команду Большой лиги. Спортивный отдел «Фри-Пресс» всегда был моим любимцем. Обилие фотографий. Простая и четкая верстка, легкий в чтении шрифт, незатейливый, доступный любому стиль изложения. Настоящий литературный слог, в котором каждое предложение предназначено для чтения, а не для того, чтобы ломать над ним голову: «Прежняя звезда “Бразер-Райс” Фил Старански, который в среду произвел в сдвоенном матче два удачных хита, нацелился на трипл, а то и на хоум-ран, и многие эксперты Мичигана и Трамбулла готовы держать пари, что его не один раз увидят на третьей базе еще до того, как клуб отправится в свое первое западное турне. По словам тренера питчеров, Эдди Гонзалеца, нет сомнений в том, что “клуб имеет серьезные планы” насчет этого уроженца Хамтрамка, и в особенности потому, отмечает Гонзалец, что “парень перестал тянуть на себя любое одеяло и начал играть головой”». Когда я учился в колледже, «Фри-Пресс» каждое утро доставляли прямо к изголовью моей постели, а при переезде в Хаддам я подписался на нее и получал по почте. Время от времени я подумываю о том, чтобы уйти из журнала и снова завести свою газетную колонку. Уверен, однако, что с этим я запоздал. (Провинциальные спортивные издания не питают теплых чувств к людям из общенациональных журналов, потому что мы получаем больше денег. А кроме того, сведения, которые мне временами перепадают от старых журналистов, специализирующихся по какому-то одному виду спорта, таковы, что, используя их в печати, я выглядел бы попросту глупо.)
Это утро ощущается мною, несмотря на дружественную анонимность отеля, как странноватое. Что-то начинает позуживать у меня под ложечкой – чувство не столько неприятное, сколько неотвязное. Кое-какие из увиденных в вестибюле людей напомнили мне моих знакомых, а это показатель того, что назревает некое незаурядное событие. Один мужчина, стоявший в очереди на выписку из отеля, походил – ни больше ни меньше – на Уолтера Лаккетта. Даже негритянка в киоске и та смахивала на Пегги Конновер, женщину, которой я писал в Канзас, ту, из-за чьих писем от меня ушла Экс. Вообще говоря, Пегги была по происхождению шведкой и, наверное, развеселилась бы, услышав, что она несколько схожа с негритянкой. Все эти знаки, как и любые другие, могут быть добрыми, а могут дурными, я предпочитаю выводить из них заключение, что жизнь – жизнь каждого человека – совсем не так бестолкова и беспорядочна, как может казаться, что в душе каждого из нас при всяком удобном случае разгорается надежда на достойные, обогащающие нас отношения с людьми.
Ночью, после того как Викки уснула, мне приснился чрезвычайно странный сон – раньше я никогда его не видел и, надеюсь, не увижу впредь. Начать с того, что сны я вижу не часто и почти всегда забываю, едва открыв глаза. А если запоминаю, то, как правило, приписываю их происхождение чему-то съеденному вечером или книге, которую недавно прочитал. Да и чего-либо знакомого в них, по большей части, не встречается.
Однако на сей раз я столкнулся во сне с человеком, которого знал, но забыл, – хоть и не полностью, поскольку какие-то вспышки воспоминаний, из которых я, правда, не смог сложить ясную картинку, во сне присутствовали. И человек этот упомянул – до того окольно, что теперь и слов-то его не припомнить, – нечто позорящее меня, сильно позорящее, и я испугался, что он может знать больше, чем я забыл, хоть и не следовало бы. Все это здорово меня потрясло, пусть и не пробудило. Когда я проснулся в восемь, то помнил весь сон очень отчетливо, хоть и не смог связать его с какими-то именами, лицами или позором, который навлек на себя.
Помимо того, что я плохо запоминаю сны, я и верю-то в них и в их предположительное значение не так чтобы очень. Все, с кем я когда-либо разговаривал о снах, включая и, счастлив сообщить, миссис Миллер, относятся к ним в точности как я и выслушивать описания чужих сновидений не желают: каждый толкует свои как отражение чего-то неприятного, некоего отвратного намерения или мелочного, постыдного желания, загнанного в закуток подсознания, из которого оно впоследствии пытается выбраться и чем-нибудь да насолить.
Я же – поборник забвения. Забвения снов, бед, давних изъянов характера – моего и любого другого человека. На мой взгляд, если мы не умеем забывать сказанное и сделанное прежде, забывать и прощать, так нам и надеяться не на что.
Вот почему именно этот сон так меня растревожил. Он был о забвении, и в то же время в нем присутствовала отчетливая тема непрощения, она-то и поразила меня во сне, в котором я увидел себя посреди старого города, где мне было уютно, как казаку в Киеве, и где я ничего не хотел так сильно, как счастья – в настоящем и в будущем, – которое обновлялось бы само собой. Я предпочитал видеть во всем, что попадалось мне там на глаза, добрые знаки или просто не обращать на них никакого внимания. Дурных знаков вокруг нас и так хватает (почитайте «Нью-Йорк таймс»), зачем же выбирать какой-то один из них для внимательного рассмотрения? Я в моем сне даже подумать не мог, что мне есть о чем тревожиться, я был в нем человеком сильным, нетерпеливым – и даже властным. А если и тревожился о чем-то – в старом, замшелом бытийном смысле этого слова, – то для меня это и сейчас большая новость.