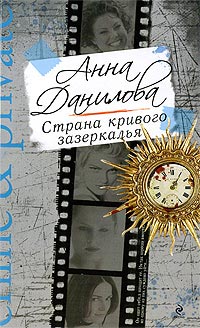Книга Изгнание в рай - Анна и Сергей Литвиновы
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он хотел крикнуть ей резкое. Но вместо этого – никак от себя не ожидал – вдруг заплакал. Бурно, навзрыд. Словно младенец.
Санитар немедленно подскочил, поднял его с земли – легко, словно пушинку. Поволок в корпус.
Настя осталась в парке. Михаил пытался упираться, насколько это было возможно в дюжих лапищах санитара. Вопил:
– Настя! Не уходи! Не бросай меня!
С ужасом понимал: он не может остановить поток слез. И ноги сами собой топают, как у ребенка в истерике. И даже речь непонятным образом превратилась в картавую:
– Не бласай, не бласай! Позалуста!
Константин-какой-то (Миша снова забыл его отчество) уже бежал навстречу, на ходу отдавал указания медбрату:
– Укол готовь, быстро!
– Нет, нет! Не колите! Позалуста! Я боюсь!
Причем мозг – очень здраво, очень трезво – осознавал: «Дьявол, что за бред я несу! Почему я не могу сказать нормально: «Хватит меня закалывать! Я здоров! Я почти все вспомнил! Сам!»
Но язык не повиновался, продолжал нести чушь:
– Не делайте мне больно! Помогите! Мама, мамочка!
Рыдал, бился, пытался царапать – сначала санитара, потом себя.
А в голове, будто метроном, стучало: «Я не убивал! Не убивал! Не убивал!»
И повторяло, монотонно, навязчиво – до тех пор, пока после укола он не провалился в тяжелую мглу.
* * *
Михаил проспал почти сутки и на следующее утро проснулся совсем разбитым. В голове туман. А еще – дикий страх. Что-то случилось вчера. Что-то очень плохое случи…
Он рывком сел на постели. Пробормотал: «Я убил свою дочь».
Нет. Даже если он псих, тяжелый, неизлечимый, подобное все равно невозможно.
В голове шумело, руки дрожали. Вчерашнее лекарство его оглушило, притупило боль. Однако воспоминаний не стерло. И мозаика продолжала складываться – все быстрее, все отчетливее… Он чувствовал себя реставратором. В его мастерской – картина. Нужно установить ее подлинного автора. И вот он снимает с нее век за веком, слой за слоем, пока не проступает самое первое, истинное изображение.
Его девочки пошли в Большой театр и оттуда не вернулись. Похититель позвонил ему той же ночью. Михаил и голос вспомнил: глумливый, женственный. Прибаутки, хиханьки. И требование: пять миллионов долларов.
Севка – его друг и партнер по бизнесу – уговаривал идти в полицию. Или своими силами разбираться.
Перечислял тех, кто мог похитить. Убеждал: если платишь, заложников все равно убивают. Чтобы свидетелей не оставлять.
Но Михаил его не послушал. Поступил по-своему. И ошибся.
А дальше случилось нечто нелепое, странное.
Томский никак не мог вспомнить. В отчаянии со всей силы укусил себя за руку. Потекла кровь.
– Придурок, – приговорил сосед по койке.
Михаил отвернулся от него, начал вытирать руку о грязную простынь – и вдруг мысль пришла.
Он не просто так отправился в заброшенную деревню с убийственным названием «Веселое».
Ему прислали координаты места, где находились жена и дочь. Но зачем, если его близкие все равно были мертвы?!
И еще: охотничья «Беретта». По виду очень похожая на ту, что у него недавно украли из квартиры.
До того момента, как он нашел трупы жены и дочери, Томский полностью осознавал реальность. И тогда, в Веселом, сразу насторожился: зачем посреди разгромленного дома – новенькое ружье?
Он не собирался его касаться. А когда нюхал дуло – не пахнет ли порохом? – обернул руку носовым платком.
Но потом, когда Михаил увидел тела своих любимых, ему стало все равно. И он схватил ружье в руки.
Томский, да ты не просто сумасшедший!
Ты – полный, беспросветный идиот.
Сопоставляем факты. Что там Настя рассказывала про суд? Нянька на нем показала, что они с женой скандалили и собирались разводиться? Что он Кнопку ударил и что она с дочкой сбежала из дома?
Сто процентов: простушка Галина Георгиевна сама бы до такого не додумалась. Кто-то подсказал.
Поворачиваем кубик Рубика в последний раз и получаем: Сева. Его партнер по бизнесу и лучший друг. Который его здесь ни разу не навестил. Никак не помог. И – наверно! – подтвердил на суде показания няньки. Да еще от себя добавил.
Что наплел он? Тоже – что Томский избивал любимую жену? Поднимал руку на дочь?!
Но Акимов мог сказать и правду. Он знал психиатра, которого Томский время от времени посещал. У него хранились рецепты на антидепрессанты, которые Михаилу иногда требовалось принимать. У него в телефоне была фотография Леночки – неделя от роду, заплаканной, грязной, исхудавшей, с исцарапанным личиком. Говорил, хранит на память об «исторических трех днях», когда великий программист работал нянькой.
– Значит, это Севка… – подавленно пробормотал программист.
Сколько же прошло времени?
Когда случилась беда, только начиналось лето. И сейчас листья свеженькие, нежно-зеленые. Год, получается, целый прошел? Или два?!
Он откинулся обессиленно на постели. Лекарства, пребывание в дурке свое дело сделали: думать отвык. Голова раскалывалась нещадно.
Глаза слипались. Вот оно, забытье – совсем рядом, искушает, манит.
Однако Томский – сквозь отчаяние, сквозь боль – продолжал вспоминать.
Как относил дипломат с деньгами на вокзал. Как долго и безнадежно ждал звонка от похитителей. Как отчаянно гнал в заброшенную деревню.
Помнил, как спускался в подвал. Шел по огороду. Увидел своих любимых – мертвых. И как стрелял по ласточкам – тоже помнил. А дальше – все, одни обрывки. Вот он, в кромешной тьме, мчится по лесу, и ветки бьют в лицо… выбегает на шоссе, останавливает машину. Зачем-то ударяет шофера под дых, рвется за руль. Полиция, хватают, вяжут. Он вырывается, кричит. Везут в больницу. Вопросы. Уколы. Снова вопросы… Куда-то опять везут. И потом – пустота. Кокон. В котором он просидел бы всю жизнь – не явись в больницу Настя.
Зачем ей понадобилось приводить его в чувство?
Плевать зачем.
Только бы она не испугалась его вчерашней истерики! Только бы пришла опять!
Завтракать Томский не стал, прилип лбом к стеклу. Глаз не сводил с дорожки, что вела к его корпусу.
Ладную фигурку завидел издали, бросился к санитарам:
– Можно в парк?
Амбал отстегнул от пояса наручники, защелкнул на его запястьях. Буркнул:
– Так теперь пойдешь. Доверия тебе нет. – И кончиком дубинки подтолкнул: – Ну, шагай.
…Настя посмотрела брезгливо. Он и сам – впервые – увидел себя со стороны: грязная пижама, небритый, наручники, тапки на босу ногу.