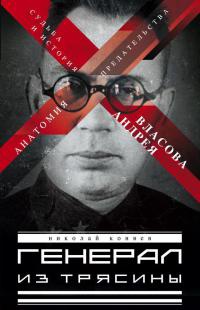Книга Воспоминания еврея-красноармейца - Леонид Котляр
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сразу же после этого Семен Никитич по телефону пригласил мою жену к себе на разговор. Он был с ней чрезвычайно любезен (она тоже работала под его началом — руководила хором в 28-й и 138-й школах), заверил, что больше меня дергать не будут и дадут возможность спокойно работать, а я понял, что уж теперь он меня в покое не оставит и приложит все усилия, чтоб работа стала для меня сущим адом.
Между тем буря улеглась, я продолжал трудиться. Завуч 155-й школы собрался уходить на пенсию, и директриса планировала передать эту должность мне. И хотя я предупреждал ее, что Ермоленко этого не допустит, она уверяла, что своего добьется. Небо над моей головой в самом деле казалось безоблачным, но я понимал, что это до поры до времени. И когда мне неожиданно представилась возможность перейти на работу в другой район (пригласила к себе в школу ставшая директрисой знакомая учительница), я решил этим шансом воспользоваться. Закавыка была в том, что любое оформление на новое место происходило исключительно с разрешения и через отдел кадров ГорОНО. Там этими делами ведал некий чиновник по фамилии Однолько. Когда я пришел к нему с просьбой, он даже не взглянул на меня, а лишь швырнул в меня коротким «нi!», похожим на пощечину или плевок в лицо.
И Семен Никитич, конечно, обо мне не забыл. Выждав некоторое время и убедившись, что секретарь горкома о его шалостях ничего не узнал, он сделал все, чтобы создать для меня совершенно невыносимую обстановку в школе. Так, например, он прислал с проверкой инспектора, которая объявила, что я занимаюсь очковтирательством, скрывая неуспеваемость учащихся, которых не способен обучить грамматике. Секретарь райкома партии во всеуслышание объявил об этом на районной учительской конференции. Но я выстоял. А когда Ермоленко и в самом деле, кажется, оставил меня в покое, я сам решил уйти из школы и подыскал себе другую работу. «Доконали» меня и Семен Никитич, и, может быть, еще больше — школьная процентомания. Учителя изо дня в день заставляли заниматься обманом, очковтирательством, выдавая «на гора» стопроцентную успеваемость, независимо от того, как на самом деле учатся дети. Надо было быть полнейшим невеждой и дураком, чтобы не видеть, какой огромный вред приносит такая практика: вред детям, развращая их, приучая к безответственности и получению незаработанного; вред школе; вред государству и, наконец, вред личности учителя, унижая его, втаптывая в грязь. На эту тему часто публиковала серьезные статьи «Литературная газета», но процентоманию остановить было невозможно, ее изо всех сил поддерживала партноменклатура — все эти ермоленки, бойченки и однольки. Пропадало всякое желание продолжать бессмысленную деятельность, угнетало сознание того, что соучаствуешь в преступлении, длительном и ежечасном, влекущем за собой тяжкие долговременные последствия.
19 февраля 1969 года я оставил школу, полагая, что уже никогда больше туда не вернусь, и взялся за неинтересную, низкооплачиваемую работу. Но даже такую оказалось очень нелегко получить. Наступили времена, когда еврею устроиться на работу стало практически невозможно. Это было связано с волной эмиграции. Райкомы КПСС наказывали руководителя любого предприятия, если его работник уезжал на постоянное место жительства в Израиль. И руководители просто старались не брать на работу евреев. (Замечу в скобках, что выехать было не так просто. Каждый, обратившийся к властям за разрешением на выезд, на следующий же день лишался работы. А разрешение затем предоставлялась в лучшем случае через шесть-восемь месяцев. Жить без зарплаты так долго могла далеко не каждая семья.)
Шесть лет спустя, в декабре 1974 года я все-таки вернулся в школу, но уже в Новосибирске, куда мы уехали (а не в Израиль) после того, как мой сын в течение восьми месяцев не мог найти себе работу в Киеве по окончании института. Вернее, это была не школа, а ГПТУ, где я преподавал политэкономию. А сын работал в Новосибирске старшим редактором студии документальных фильмов, жена — в консерватории концертмейстером в классе вокалистов. Мы вздохнули с облегчением, ненадолго почувствовали себя людьми.
Однако вскоре из-за болезни жены нам с ней пришлось вернуться на Украину (врачи указывали на несовместимость климата) и с осени 1976 года поселиться в селе Марьяновке Полесского (бывшего Кагановичского) района, а затем и в самом райцентре Полесском (бывших Кагановичах), купив себе там в 1978 году домик, вернее, полдома. Там меня еще помнили и дали работу в школе. На это я и рассчитывал, потому что устроиться на работу, обратившись в Министерство или ОблОНО, не было ни малейшего шанса.
За это время процентомания достигла апогея. Успеваемость стала безусловно стопроцентной, и появился новый ее показатель — «качественный процент» (количество успевающих на 4 и 5), который у лучших учителей достигал 50 %. Ставить в журнал двойку стало уже совсем неприлично — все равно как плевать на пол. Впрочем, ставь, не ставь — все прекрасно знали, что за четверть ни у кого двойки не будет, даже за первую четверть, когда 70 % учебного времени тратилось на уборку колхозного урожая.
Весь этот абсурд дошел до того, что при школах формально существовали консультационные пункты районной заочной школы рабочей молодежи, имевшей своего директора, методистов и т. д. Считалось, что там проводятся занятия и принимаются экзамены и зачеты, но все это была сплошная липа. И учащимся-заочникам, когда наступал срок, учителя разносили аттестаты о среднем образовании по домам, поскольку выпускники даже не считали нужным явиться ради их получения в школу. Некоторые вообще не подозревали, что являются учениками этой самой школы. Это была уже собственно не процентомания, а доведенная партноменклатурой до высшей степени абсурда фикция всеобщего среднего образования.
Впрочем, в таком положении находилось не только образование, но и все народное хозяйство, венцом и символом чего стал Чернобыль.
Это страшное слово появилось в моих записках не случайно. Полесское находится в четырех десятках километров от злополучной АЭС. И когда произошла страшная катастрофа, мы с женой оказались самыми непосредственными ее жертвами. Первые дни мы, как и все местные жители, не знали ничего толком ни о масштабах трагедии, ни об опасности, которой подвергаемся. Между тем в Полесское прибывали автобусы с эвакуированными жителями Припяти и приносили на своих колесах смертоносную радиоактивную пыль, которую по халатности никто не распорядился смывать перед выездом из Припяти. Таких автобусов прибыло не меньше двух-трех сотен. Радиоактивные выбросы взорвавшегося реактора оседали «пятнами» на крышах и улицах Полесского, а правдивая информация о степени радиоактивного заражения не оглашалась, никто не измерял радиоактивного фона, да и счетчиков таких ни у кого из жителей тогда не было. Кроме того, местное начальство прилагало невероятные административные усилия, чтобы наш поселок не был объявлен зоной обязательного отселения.
Когда же стало хотя бы в какой-то степени понятно, что, собственно, происходит, мы с женой на время покинули Полесское и 10 мая приехали в Новосибирск — там осталась жить семья нашего сына. Уезжали поездом из Киева, где к этому моменту уже несколько улеглась возникшая после аварии паника. И хотя очереди в кассы были большие, они уже не выходили хотя бы за пределы вокзала.