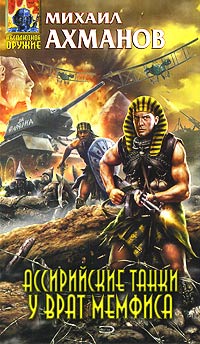Книга Страж фараона - Михаил Ахманов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Разве? Всякая тень хочет сделаться тем, кто ее отбрасывает, – промолвил Семен. – Но о тенях – как-нибудь попозже, а сейчас скажи мне, Инени: ты знаешь, что я бываю в Доме Радости, у великой царицы?
Жрец кивнул.
– И Рихмер с Софрой тоже об этом знают? Новый утвердительный кивок.
– Разумеется, друг мой! Известно, что ты рисуешь, лепишь из глины и говоришь с царицей. Я думаю, это хорошо. Время смутное, а речи твои мудры и вселяют в нее уверенность.
– Она сказала тебе об этом? – Да.
– Но ведь не каждое слово из наших речей передают Рихмеру?
– Надеюсь, не каждое. И от меня он не услышит ничего, Гор тому свидетель! Великий Гор, чьи глаза – луна и солнце, а крылья покоятся по обе стороны небосклона!
– Вот и оставим его в покое. Его, но не Софру с Рихмером. Пусть они узнают от тебя кое-что похожее на правду – например, что я провидец и маг, что царица верит мне, как призраку первого Джехутимесу, и слово мое весит сто дебенов золота: могу склонить ее к Софре или к Хоремджету.
Пару минут Инени сидел в молчании, потирая ястребиный нос и рассматривая Семена маленькими запавшими глазками, будто видел его впервые; затем проговорил:
– Рихмер хитер! Думаешь, поверит?
– Почему бы и нет? Я просил царицу возвысить Сенмута – пусть возвысит! Так возвысит, чтоб Рихмер поверил в цену моих слов! Сотня дебенов золотом, не меньше!
– Вижу, на серебро ты не согласен, – произнес жрец с усмешкой, но, тут же погасив ее, добавил: – Опасные игры, очень опасные! Я верю в твой ум и твою мощь, но помни: хоть мал скорпион, да коварен и убивает даже льва. Я не хочу твоей смерти, Сенмен.
– И я не хочу, а значит, попробую договориться с Рихмером.
– Вдруг не договоришься? Семен хмыкнул и пожал плечами:
– Вернусь в поля блаженных! А ты почтишь меня и сложишь в мой саргофаг столько ушебти, сколько дней в году.
– Я прикажу отлить их из золота – ровно на сто дебенов, – пообещал жрец, поднимаясь.
Он удалился, оставив Семена размышлять над свитком древних поучений. Их автор был, несомненно, мудрецом, верившим в силу и нетленность слова и полагавшим труд рапсодов столь же вечным, как творения ваятелей. “...Они не возводили себе пирамид из бронзы с надгробными плитами из железа... Книги стали их пирамидами, тростниковое перо – их дитем, поверхность камня – их женой... Они ушли, и имена их были бы забыты, но писания заставляют помнить их...” Пожалуй, в этом крылась истина; мудрое слово и в самом деле помнилось, а значит, обладало мощью – такой же, как камень и металл.
Какое же слово он скажет Рихмеру? Чем соблазнит, как пригрозит, чтоб отвести опасность от царицы?
Слово еще не пришло, однако он знал, что не – оставит эту женщину и не отдаст ее ни Софре, ни Хоремджету. Не отдаст никому!
* * *
Ковры, подушки и циновки разложили под каштаном, зажгли светильники, вытащили лучшую посуду – серебряные блюда для жаркого, фаянсовые чаши для вина и бронзовую лохань для омовений; служанок нарядили в платья из тонкого льна, То-Мери дали корзинку с цветами, Техенну и Ако поставили с факелами у ворот – встречать гостей. У водоема тоже постелили циновки – для шестерых арфисток; в лампы добавили шарики кифи, и над садом поплыл беловатый благовонный дымок.
Брат праздновал великую удачу – его подняли до таких высот, что впору закружиться голове. Правитель дома царицы, наставник ее дочерей... пусть не главный наставник, а заместитель Инени, но все же этот пост делал его одним из важных государственных сановников. Они, подобно шахматным фигурам, располагались в строгой иерархии, и первым в табели о рангах шел ферзь-визирь – или, по-местному, чати; пост еще вакантный, предмет борьбы и споров, так как чати должен был сделаться регентом и наставником юного пер'о. Вторая позиция была за Софрой, предводителем жречества Та-Кем, а за его спиной выстраивались прочие фигуры: Нехси, царский казначей, Исери, главный над житницами Нижнего и Верхнего Египта, и Саанахт, правитель Дома Войны. Три министра – финансов, сельского хозяйства и военный... Место Сенмута теперь находилось в этом ряду – выше, чем у Пенсебы, градоначальника Нут-Амон, и выше, чем у Рамери и трех-четырех знатнейших хаке-хесепов. Выше, чем у Хоремджета... Но под рукой военачальника было много пешек – копейщики и стрелки, секироносцы и колесничие, весь столичный гарнизон, с которым Саанахт, ввиду глубокой старости и дряхлости, управиться не мог. Секиры и копья являлись веским аргументом в пользу Хоремджета, способным продвинуть его в ферзи и даже в короли – пожалуй, с большей вероятностью, чем Софру.
Но эти невеселые раздумья не помешали Семену насладиться пиром. Газель, запеченная на вертеле, оказалась великолепной, как и терпкое вино из-под Абуджу, журавли и гуси, пирожные Абет и томные песни арфисток, которых было столько же, сколько пирующих, и это сулило иные радости, кроме газели. К тому же пир оживлялся беседой, чему способствовали и вино, и созерцание арфисток, и тучный болтливый Пианхи, сын Сенусерта, служитель Мут, писец в чезете колесничих и смотритель царского стола. Все эти должности помогали проникновению в разные жизненные сферы, и Пианхи отнюдь не скрывал, что проник так глубоко, как позволяют чуткий слух и острый глаз. Вдобавок он обладал таинственным искусством чревоугодников и сплетников – есть, пить и говорить в одно и то же время.
– Наш драгоценный друг, – Пианхи кивнул в сторону Сенмута, – сделал выбор, и нам остается молить богов, чтоб выбор этот оказался верен. Что до меня, то я принесу обильные жертвы Амону, Мут и Птаху... – Он ухватил газелью ляжку и оторвал зубами кус. – Завтра же принесу... трех гусей и сосуды с благовониями... умм, какое мясо!.. пожертвую их, чтоб печень Сенмута не высохла в песках пустыни, чтоб руки были полны богатства, как цветочная корзина у этой юной девушки... – писец алчно покосился на То-Мери, – и чтобы он звал друзей к себе – умм! – тысячу раз!
– Не понимаю, о каком выборе ты толкуешь, – сказал изрядно захмелевший Кенамун, начальник рудников. – У нас нет выбора, ибо вершит его Великий Дом – жизнь, здоровье, сила! Он может возвысить нас или низвергнуть, послать на север или юг... Мы не выбираем, Пианхи, мы делаем то, что нам велят.
– Он прав, – заметил Джхути, художник и приятель Сенмута. – Мы – муравьи под стопой владыки, и слушаем его призыв.
– Лукавите! Лукавите, мои бесценные! – Пианхи погрозил им полуобглоданной газельей ляжкой. – А кто у нас теперь владыка? Чей призыв должны мы слушать? – Он сделал паузу, гулко отхлебнул из чаши и закончил: – К тому же вы говорите о внешней стороне служения, а я – о внутренней, о выборе, который делает душа, ибо у нее всегда есть предпочтения. Тайные, но есть!