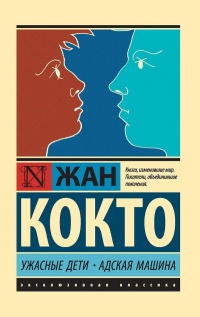Книга Метеоры - Мишель Турнье
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Что до Даниэля… Бесполезно пытаться скрывать от себя: он растапливает мне сердце. Страсть жалости, которую он мне внушает, смягчает, расплавляет того закоренелого холостяка, закаленного на огне единого желания, гибкого, но прочного, не поддающегося коррозии, которым я был, подобно малышке Флеретте. Любовь = желание + нежность, и сила любви, ее здоровье — в тесном соединении этих двух элементов. Но сначала Эсташ для своего личного пользования снимает сливки с чистейшего из моих желаний. Что до нежности, которую внушает мне Даниэль, то она принадлежит к особой разновидности жалостной нежности, которая плохо сочетается с желанием и даже наверняка действует на этот сплав разлагающе. Вот я и сбился с пути, или, по крайней мере, иду в неизвестном направлении. В пользу ситуации, впрочем, говорит ее новизна.
Даниэль. Его официальное вхождение в мою жизнь случилось три дня назад. Я как раз выплатил его месячную зарплату матери. Он был свидетелем операции и остался под ее очарованием. Надо бы мне его отучить от этой дурацкой завороженности деньгами. А пока что я ею пользуюсь, потому что, нет сомнения, в его глазах деньги — это я. Надо бы… надо бы… Часть дороги мы пройдем вместе, часть дороги — или долгий путь, решит судьба. Этого достаточно, чтобы я кипел планами на его счет. Планами и радостью. Мне двадцать лет, и жизнь начинается! Моя новехонькая любовь — золотая жила, которую мы разработаем вместе. Для начала я отвел его в «Вокзальную» гостиницу. Я хотел, чтобы он единственным из крановщиков обнаружил другую сторону моей жизни, жизнь господина Сюрена. Он, конечно, знал «Вокзальную» гостиницу — снаружи, как самый роскошный отель города. Он вошел туда, трепеща от почтения. Комната ослепила его окончательно — высотой потолка и ковром на полу. Я подвел его к окну, выходящему на вокзальную площадь. Неоновая вывеска — самой гостиницы — бросала на него красный отсвет. Я протянул руку к его затылку, потом расстегнул ворот его рубашки. Я дрожал от счастья, ведь то был мой первый жест обладания. Детская хрупкость его шеи. Надо бы отучить его от неизбежной фуфайки, но я давно знаком с этой популярной реинкарнацией крестьянского фланелевого нательника. Мои руки зацепляются за золотую цепочку, на которой висит образок Богородицы. Он, по всей видимости, забыл про эту реликвию набожного детства, как щенок, что яростно вертелся, сбрасывая только что надетый ошейник, забывает о нем через час и до конца своих дней. Он забыл про него, забыл про образок, но мне, Александру Сюрену, Денди отбросов, эта чистая и потаенная вещица пришлась как удар подвздох, и страстная жалость вновь принялась жечь мне глаза. Я застегнул ворот его рубашки и снова завязал ему галстук, жирную и выцветшую ленту. Надо бы мне купить ему галстуков… Надо бы… надо бы…
* * *
Сегодня, во вторник 15 июня, в 17.40 в центре дебрей раздался крик. Вернув себе, как и предвиделось, почти всех дезертиров, я все же зашел в «Ослиный кабачок», чтобы посмотреть, как продвинулись работы по расчистке. Осталась только горстка людей, чиркавших ножницами без убеждения и порядка, а «светлая, воздушная и яростная» кротовая нора на вид совершенно не пострадала от проделанной на сегодняшний день работы. Мне еще хватило времени заметить маленького конюха, который держал под уздцы двух лошадей, и я заключил из этого, что Фабьенна, должно быть, где-то поблизости.
И тут раздался крик, вопль боли и гнева, яростный, многословный, полный смертельных угроз стон. И почти сразу же все увидели человека, выскочившего из туннеля, прорубленного в толще колючек, человека, который бежал, продолжая вопить и прижимая руку к левому виску. Я узнал Брифо, и он, видимо, тоже меня узнал, потому что бросился ко мне.
— Ухо, ухо! — хрипел он. — Ухо отрезала!
И он протянул ко мне левую ладонь, облитую гемоглобином. Но впечатление на меня произвела не его рука, а эта новая голова, разбалансированная отсутствием одного уха настолько, что в замешательстве на ум приходит вопрос: в фас она видна или в профиль?
Я не стал задерживаться возле сумасшедшего полубезухого старика. Я оставил его наедине со своими стонами и побежал к колючкам. Углубился в галерею, из которой он вышел. К удивлению своему, я оказался в лабиринте достаточно сложном, чтобы человек рисковал в нем потеряться. Риск наверняка тщетный, потому что колючие дебри простираются не бесконечно, но впечатление угрожающей свирепости, исходящее от тысяч и тысяч слоев колючей проволоки, под которыми чувствуешь себя погребенным, конечно, тоже играет свою роль. Я шел вперед, поворачивал, шел, снова поворачивал и очутился нос к носу с Фабьенной. Она не двигалась, не улыбалась, но мне показалось, я прочел на ее полном и круглом лице выражение триумфа. Я опустил взгляд на ее руки. Обе они были забрызганы кровью. Правая еще держала маленькие серебристые кусачки, которые я видел у нее во время последней встречи. Левая ладонь поднялась ко мне и раскрылась: я увидел на ней две серьги, две филиппинские жемчужины, оправленные в виде пусет. Она отступила так, чтобы я увидел землю. Сначала взгляд мой упал на ошметок красной сморщенной кожи, и я подумал об ухе Брифо. Но это еще было ничего. Присмотревшись, я различил контур человеческого тела, наполовину выступающий из вязкой почвы. Посреди свежевспаханной земли смеялся во весь оскал увенчанный войлочной шляпой череп.
— Я подозревала, что Крошмор должен находиться здесь с одной из жемчужин, — объяснила мне Фабьенна. — К моему удивлению, вторая жемчужина явилась сюда на ухе у Брифо. Странная встреча, не правда ли?
Она вновь обрела свой светски-иронический тон, особенно резавший ухо в данной ситуации.
Я не желал более ни видеть, ни слышать об этом. Без единого слова я повернулся спиной к Фабьенне и вышел из лабиринта. Пока можно только строить домыслы о том, что здесь произошло четверть века назад, но детали пазла довольно хорошо подходят друг к другу. В то время «Ослиный кабачок» процветал и служил штаб-квартирой мусорщикам этих проклятых земель. Здесь и сошлись Брифо и Крошмор, каждый со своей жемчужиной, на последний торг. Можно предположить, что, исчерпав все доводы, они решили разыграть их в кости или в карты. Игра перешла в ссору, и ссора в поножовщину. Кажется установленным факт, что в то время Брифо залечивал большую рану на животе и вынужден был несколько недель пролежать недвижно. Можно допустить, что Крошмор, покинув, тоже раненым, кабачок, заблудился глубокой ночью в зарослях и умер в этой болотистой низине. А вскоре после того туда сбросили тонны колючей проволоки. Когда, поправившись, Брифо стал бродить по этим местам, он, к досаде своей, обнаружил гору железных колючек, лежащую на своем давнем враге — как достойное того надгробье. Он стал ждать случая, забыл и внезапно вспомнил о жемчужине, увидев, как люди Фабьенны прокладывают ходы. Дело о жемчужных серьгах снова ожило, и, словно повинуясь этому оживлению, Аллелуйя выдвинул против него свое обвинение. Брифо пристально следил за продвижением в очистке оврага. Ему важно было первым добраться до останков Крошмора. Он пришел только вторым, потеряв одновременно жемчужину и ухо…
На шее у него золотая цепочка и образок Богородицы. Еще у него на левом безымянном пальце здоровенная алюминиевая печатка в виде черепа. Вот все его драгоценности. Я постараюсь их не тронуть. Зато надо подумать, как бы его одеть. Хотя бы для того, чтобы потом раздеть. Как? Проблема деликатная, волнующая, сладостная. Осторожность, мир, мудрость — заключались бы в том, чтобы сгладить его, закамуфлировать, сделать серой тенью, скрытой за моей спиной. Мне это отвратительно. Мне отвратительно рядить его в одежды диаметрально противоположные моим. Я хочу, чтобы он был похож на меня вплоть до моего «дурновкусия». Даниэль будет денди, вроде меня.