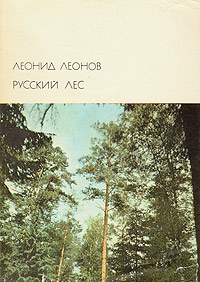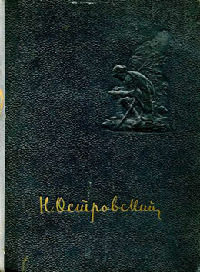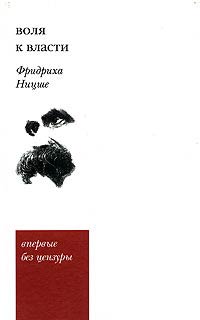Книга Даниэль Друскат - Гельмут Заковский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Может, и вправду рассказать обо всем старику Гомолле?
6. Штефан отрицательно покачал головой.
— Нет, я ничего не знал об этих трупах. Но, понимаешь... — Он помедлил и продолжал: — Я дал втянуть себя в паршивую историю...
— Вот как! — Гомолла взглянул на Штефана.
Макс не выдержал его взгляда и наконец, пожав плечами, сказал:
— Если бы мне не предложили председательство, я бы наверняка смылся на Запад. Кстати, — он кивнул вниз в сторону деревни, — самое время идти. Хильда ждет с машиной.
Старик тяжело поднялся с травы, однако не допустил, чтобы Штефан ему помогал. Встав наконец на ноги, он потянулся, выпрямился и, пока Штефан не подал ему трость, держался обеими руками за поясницу.
— До чего же противный крюк, — сердито сказал Гомолла, — четверть часа от липы до деревни, а потом еще десять километров по шоссе — когда-то доберешься до Альтенштайна. Друскат был прав, настаивая на строительстве дороги. Но ведь он знал, как она пойдет. Так или иначе ясно одно: если бы прокурор не появился сегодня, дня через два могилу разворотил бы экскаватор. Как ты думаешь, Друскат это учитывал?
Штефан пожал плечами:
— Не знаю.
А сам подумал: «Вполне возможно. И то, что сейчас расследуют, может коснуться кое-кого из нас, некоторые, правда, еще и не догадываются. Мы с Даниэлем и дружили, и враждовали, пару раз я хотел от него избавиться, да так и не сумел. Мы странным или, вернее, роковым образом скованы одной цепью, он со мной, с Гомоллой, а все мы — с людьми в деревнях. Отдаем мы себе отчет или нет, но волей-неволей все мы связаны друг с другом. И многие имеют отношение к делу Друската.
Когда мы заметили, что с Даниэлем Друскатом что-то не так, когда он вел себя странно или делал что-либо для нас непонятное, то поначалу думали: все станет ясно, стоит только разобраться, когда это было и при каких обстоятельствах.
Но теперь я понимаю, что в такой-то день такого-то года я сам совершил поступок, о котором сегодня вынужден сожалеть. Чудно, сперва я еще надеялся: достаточно будет проверить пресловутые темные пятна в жизни Друската, и все, а теперь, думая о Даниэле, должен перепроверять себя, и не всегда это проходит гладко. Ведь в самом худшем я старику еще не признался».
— Однако, — заметил Гомолла, — признания у тебя удивительные. Прощелыга ты был, даже за границу драпать собирался.
«Нет, пока не могу, — думал Штефан, — я ему скажу, как только спустимся в деревню, прямо при Хильде и скажу». Он снова прибегнул к спасительной наглости и невинно вытаращил глаза:
— Растут люди, Густав.
— Да-да. — Гомолле опять нашлось чему удивляться, потому что они шагали по необозримой пшеничной ниве, моргенов сто, а то и больше, пшеница густая, пышная, высокая, несмотря на то что уже несколько недель стоял жестокий зной и травы в лугах желтели и сохли.
Гомолла остановился, сорвал колосок, растер в пальцах, сдул ость, на ладони остались крупные зерна.
— Хороший будет урожай!
— И неудивительно.
Штефан объяснил, как поле было подготовлено к севу: возделывание промежуточных культур, удобрение и прочее.
— Насколько хватает глаз, все принадлежит нашему кооперативу. И урожай везде будет добрый. Теперь иные косятся: Хорбек-де остров благоденствия. Но никто не спросит, почему это так. Я тебе объясню. Мы работаем, будто в одной огромной усадьбе, член кооператива у нас еще и хозяин, сохранил свою индивидуальность, а может, тут только ее обрел. Бывает, и принуждаем, но принуждаем по-хорошему, ведь каждый должен делать то, в чем он лучше всего разбирается, что ему больше всего по душе. Успех — вот он, у тебя на ладони. Можешь его потрогать, и все равно зовешь меня упрямым германским вождем, а мою политику в деревне считаешь ограниченной.
У Гомоллы не было ни малейшего желания продолжать этот разговор, он по-прежнему держал в руке зерна, хотел бросить, но не мог, задумался. Почему? Осталось что-то с детских лет, мать была набожная: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Нет... «Видно, я слишком наголодался в жизни, — думал Гомолла, — потому-то всякий раз и возмущаюсь, когда дети не задумываясь швыряют на дорогу или в урну бутерброд».
Он высыпал зерна с ладони в рот, разжевал — невкусно, взмахнул палкой и, жуя, пробормотал:
— Вперед!
Штефан задержал его.
— Густав, мне хочется, чтобы ты меня понял. Я не из ограниченности против индустриальных методов в сельском хозяйстве, я по опыту против укрупнения, за которое ратовал Даниэль.
— Теперь уже не может ратовать. — Гомолла кашлянул и решительно выплюнул кашицу. — Ох, и противный вкус.
— Мальчишками, — сказал Штефан, — мы с Даниэлем однажды забрались в склеп графов фон Хорбек. Теперь его замуровали, а раньше можно было поднять крышку и спуститься к гробам.
«Черт, — подумал Штефан, — от чего ушли, к тому и пришли. Я спустился вниз. От затхлых испарений дышать нечем, зажег фонарь, поднял его, в свете коптилки между гробов стоял бледный как смерть поляк. Потом склеп опустел, мальчишка-поляк куда-то сгинул... Наверно, это он похоронен возле скал, надо сказать старику. Но кто же второй?»
— Страшные истории? Очень интересно, — оживился Гомолла. — Что же там было, в склепе?
— Длинный цилиндрический свод, — рассказывал Штефан, — по бокам ниши и гробы, гробы — усопшие из семейства Хорбек. В конце склепа мраморный саркофаг. Мы разобрали надпись: герцог Иоахим Мекленбургский. «Вот так штука, — говорю я Даниэлю, — как же это герцог среди графов очутился?» Очень мне любопытно стало. Расспросил потом учителя, даже пастора и в конце концов выяснилось, что давным-давно, лет эдак двести назад, всем, что ты видишь вокруг, владел герцог, потом герцогство то ли захирело, то ли пошло с молотка, кто его знает, во всяком случае, земли продали, раздробили на множество мелких поместий, с которыми — это уже на моей памяти — разделались Гомолла и его люди.
Я не забыл, как стоял перед тем мраморным саркофагом и читал при свете коптилки: «Здесь покоюсь я, Иоахим, герцог». А