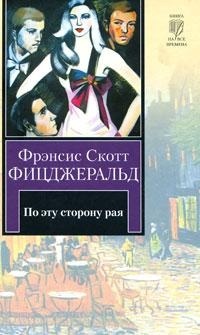Книга Один шаг - Георгий Васильевич Метельский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ну ладно, — сказал Боровиков, подумав. — Всегда брали с собой животное, возьмем и сейчас.
По праву старшего, возглавлявшего этот маленький коллектив, он принял решение: вскрыл ящик, в котором лежали самые ценные продукты, и достал бутылку спирта.
Так в буровом отряде номер два, обслуживавшем поисковую партию геологов, появился щенок, которому дали человечье имя Ванька.
Как жил Ванька последние три месяца я не знал, потому что через несколько дней после его покупки уехал к рыбакам на Ямал, оттуда к оленеводам, гнавшим стада на север, потом к зимовщикам на берегу Карского моря. У меня была одна цель — смотреть, слушать, запоминать, чтобы потом, вернувшись домой, написать обо всем виденном.
О Ваньке, сказать по совести, я забыл в суматохе кочевой жизни. Но когда, подлетая к лагерю, увидел бестолково снующего между палатками белого пса, то сразу же вспомнил поселок на берегу Обской губы, странный торг с Потапом и немощного, обреченного щенка, чья жизнь была куплена за бутылку спирта.
Ванька бросился нам навстречу первым. Как всякий артельный пес, он без подозрения относился к чужим людям и думал, что все одинаково хороши и добры к собакам.
— Значит, опять к нам, — добродушно сказал Николай Григорьевич, проводив самолет. И тут же не выдержал, чтобы не похвастать — А Ванька-то вырос, видели?
Ванька вертелся под ногами. Множество мошек, толкавшихся в воздухе, лезли ему в глаза, но пес не терял оптимизма. Он дурашливо хватал заготовленные на топливо гнилушки лиственницы и разбрасывал их во все стороны, победоносно посматривая на нас и не обращая никакого внимания на крики поварихи — ненки тети Кати.
— Ванька дрова колет, — пояснил мастер, не сводя довольного взгляда с собаки.
— Ай да Иван, вот дает! — обрадовался Саня. Он вышел из палатки и, вытянув из грязной клетчатой рубахи длинную шею, с восхищением уставился на Ваньку выпученными глазами.
За Саней, услышав восторженные восклицания, показался усатый Николай Иванович. Виновато улыбаясь, как бы стыдясь, что занимается такими пустяками, он тоже стал наблюдать, как Ванька, пытаясь захватить поленце, во всю ширь раскрывал челюсти, показывая розовую пасть и черные губы.
Ванька был, пожалуй, единственной утехой буровиков, единственным развлечением, которое они себе позволяли. Четыреста километров отделяли их от ближайшего жилья, и эти четыреста километров были безлюдной тундрой, покрытой бесконечными кочками, ползучими рощицами карликовой березки и мелкими безрадостными озерами.
Чувствуя на себе общее внимание, Ванька попробовал съесть горькую веточку полярной ивы и комок ягеля, похожий на застывшую мыльную пену, а потом тер морду о воглую землю. Наконец все это ему надоело, он ткнулся носом в руку Николая Григорьевича и без всякого понукания протянул лапу.
Это вызвало бурю восторга.
— Ишь, шельма, сахару просит! — закричал на всю тундру Саня.
— Сахару и так мало, нечего сахар разбазаривать, — по привычке буркнула из-за костра повариха тетя Катя. Было у нее смуглое, немолодое, все в подушечках лицо, приплюснутый маленький нос и узкие глаза, будто она когда-то в детстве прищурилась однажды, да так и осталась прищуренной на всю жизнь.
— Ты, Катя, не серчай. От обеда остался.
Боровиков извлек из глубины кармана обсыпанный табачными крошками кусочек рафинада, и Ванька, взвизгнув от предвкушаемого удовольствия, встал на задние лапы.
— Глянь-ка, Николай Второй, служит Ванька! Ну и акробат! — захлебываясь от восторга, крикнул Саня.
Помощник мастера не пошевелился. Он сидел на берегу озера и смотрел вдаль.
Еще раньше, в поселке, я заметил, что на Лескова иногда нападала хандра, тогда он вскидывал на плечо двустволку и уходил в тундру или же садился поодаль от товарищей и невесело смотрел в одну точку. Так и сейчас.
— Что, скучаете, Николай Николаевич?
Лесков неохотно отвел от озера водянистые с прищуром глаза.
— Да вот на гагар смотрю… Вольные птицы…
— «А гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни», — продекламировал услышавший наш разговор Ирек, но Лесков пропустил его слова мимо ушей.
— Вольные птицы, — повторил он.
Николай Николаевич тоже был в летах, но, как говорят, сохранился. Чувствовалось в его лице что-то хищное, птичье — прямой с горбинкой нос, выступающий подбородок, узкие губы и вьющийся чуб того неопределенного цвета, в котором долго незаметна седина. То ли по привычке, то ли потому, что на базаре в городе можно было по дешевке купить поношенное военное обмундирование, он носил офицерскую гимнастерку, галифе, а поверх казенный овчинный полушубок и кубанку, которую надевал набекрень.
— Николай Николаевич, кушать иди! — крикнула повариха.
Лесков неохотно поднялся с ящика, словно его отвлекли от важного дела. Он равнодушно прошел мимо резвящегося Ваньки и его восторженных почитателей, так и не удостоив вниманием ни людей, ни собаку.
За едой вспомнили, как несколько дней назад «запороли» скважину, а потом долго и трудно вытаскивали из земли трубы.
— Вот какая петрушка получилась, елки-палки, — сказал по этому поводу Саня.
— И чего долбим, и куды каждый раз в преисподнюю лезем? — как-то удивительно вздохнул Николай Иванович.
— А тебе чего беспокоиться! — ухмыльнулся Лесков. — Гроши дают, вот и долби. Твое дело маленькое. — Это была единственная фраза, которую он сказал за обедом.
— Как это не беспокоиться? Всякая работа, мил человек, беспокойство любит, — возразил Николай Иванович.
Он приехал в тундру впервые, прослышал от вербовщика про хорошие, прямо-таки даровые заработки, соблазнился посулами, северными, бесплатной дорогой в оба конца, сложил сундучок и подался. На деле заработки оказались не такими уж легкими и не такими большими, однако ж подходящими, не сравнить с теми, что получал он в колхозе на трудодни, и Николай Иванович не роптал и от работы не увиливал. Чувствовал он себя в тундре коротким гостем, мыслями был в своем брянском полесье, по ночам ворочался, думал, как там его старуха справляется и с колхозным и со своим хозяйством, прикидывал, сколько заработал, сколько истратил и сколько привезет в дом, где давно пора сменить нижние венцы.
— Спать к нам с Лесковым пойдете, — сказал вечером мастер.
В палатке стоял устойчивый запах дубленых полушубков, багульника и папиросного дыма, висевшего голубым туманом. Дымил главным образом Боровиков, а Николай Николаевич докуривал: говорил мастеру «дай сорок», вставлял окурок в мундштук из оленьего рога и медленно, глубоко затягивался. С полчаса мы разговаривали о том, о сем. Уставясь взглядом в потолок, Лесков рассказывал разные истории об охранниках и лагерях. Очевидно, он был хорошо знаком и с теми и с другими, но я так и не понял, по какую сторону