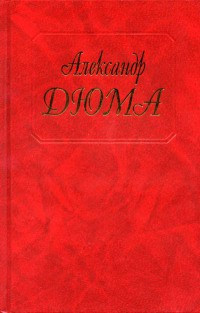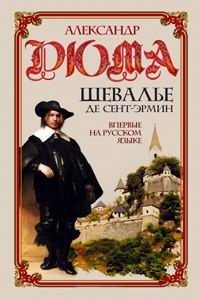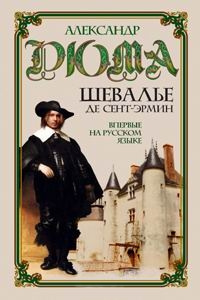Книга Женская война - Александр Дюма
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
При этих словах офицер поклонился во второй раз с таким же почтением, как и в первый.
— Принимаю ваше объяснение и надеюсь, что вы позволите мне болеть спокойно. Однако ж, сударь, отбросьте ложный стыд и прямо скажите мне правду. Будут ли присматривать за мной даже в спальне, как делали с моим бедным сыном в Венсене? Могу ли я переписываться и не будут ли читать моих писем? Если, вопреки всем ожиданиям, болезнь позволит мне встать с постели, позволят ли мне прогуливаться, где я захочу?
— Ваше высочество, — отвечал офицер, — вот какой приказ имел я честь получить из собственных уст королевы: «Ступайте, уверьте мою кузину Конде, что я сделаю для принцев все, что мне позволит безопасность государства. Этим письмом я прошу ее принять одного из моих офицеров, который будет служить посредником между ею и мной, когда она захочет сообщить мне что-нибудь. Этот офицер — вы». Вот, ваше высочество, — прибавил молодой человек с прежней почтительностью, — таковы были собственные слова ее королевского величества.
Принцесса выслушала этот рассказ с тем вниманием, какое прилагают, стремясь уловить смысл дипломатической ноты, часто зависящий от слова, поставленного в том или ином сочетании, или от запятой, поставленной в том или ином месте.
Затем, после минутного раздумья, увидев в этом поручении то, чего она с самого начала опасалась, а именно несомненный и явный надзор, принцесса, поджав губы, сказала:
— Согласно желанию королевы, вы можете расположиться в Шантийи; скажите, какая комната вам приятнее и удобнее для исполнения вашего поручения. Вам дадут эту комнату.
— Ваше высочество, — отвечал офицер, слегка нахмурив брови, — я имел честь объяснить вам то, чего нет в моей инструкции. Между вашим гневом и волею королевы я, бедный офицер и тем более неловкий придворный, поставлен в опасное положение. Во всяком случае, мне кажется, ваше высочество могли бы проявить великодушие, не унижая человека, являющегося просто орудием. Горько для меня исполнять то, что я должен делать. Но королева приказала, и я обязан до конца повиноваться ее приказаниям. Я не просил этого поручения, я был бы счастлив, если б его дали кому-нибудь другому; мне кажется, что этим многое сказано.
Офицер поднял голову и покраснел. Гордая принцесса тоже вспыхнула.
— Сударь, — сказала она, — какое бы положение в обществе мы ни занимали, мы всегда, как вы справедливо говорите, должны повиноваться королеве. Я последую вашему примеру и исполню приказание ее величества; но вы должны понять, как тяжело принимать в своем доме достойного дворянина, не имея возможности выказать ему расположение, соответствующее чести его рода. С этой минуты вы здесь хозяин. Извольте распоряжаться.
— Мадам, Богу не угодно, чтобы я мог забыть, какое расстояние отделяет меня от вашего высочества и с каким почтением обязан я относиться к вашему дому, — ответил офицер с глубоким поклоном. — Вы, ваше высочество, по-прежнему будете распоряжаться здесь, а я буду первым вашим слугой.
При этих словах молодой дворянин вышел без смущения, без раболепия, без чванства, оставив вдовствующую принцессу в сильном гневе, потому что она не могла излить досады на такого скромного и почтительного исполнителя королевской воли. Зато в этот вечер она сказала много слов в адрес Мазарини. И слова, произнесенные в глубине ее спальни, сразили бы министра наповал, если бы проклятия могли так же убивать, как и ядра.
В передней офицер встретил того же камердинера.
— Милостивый государь, — сказал камердинер, — ее высочество, госпожа принцесса Конде, у которой вы просили аудиенции от имени королевы, соглашается принять вас. Извольте идти за мной.
Офицер понял, что такой оборот дела спасает гордость принцессы, и сделал вид, что очень благодарен, как будто ему оказали милость, приняв его. Пройдя через все комнаты вслед за камердинером, он дошел до дверей спальни молодой принцессы.
Тут слуга обернулся к гостю.
— Принцесса, — сказал он, — изволила уже лечь в постель после охоты и примет вас в своей спальне, потому что очень устала. Как прикажете доложить о вас?
— Барон де Каноль, посланный ее величества королевы-регентши, — отвечал офицер.
При этом имени, которое мнимая принцесса услышала в постели, она так вздрогнула, что всякий заметил бы ее смущение, и поспешно набросила правой рукой оборки чепчика на лицо, а левой закрылась одеялом до подбородка.
— Принять! — сказала она смущенно.
Офицер вошел.
Принцесса Конде
Каноля ввели в просторную комнату, увешанную шпалерами темного цвета и освещенную только одним ночником, который стоял на маленьком столике между окнами. При этом небольшом свете, однако, можно было различить над ночником писанный во весь рост портрет женщины, державшей за руку ребенка. В каждом углу комнаты блестели на карнизах три золотые лилии, отличавшиеся от королевского герба лишь поясом в середине. Наконец, в углублении широкого алькова, куда свет, слабый и дрожащий, едва доходил, на кровати с тяжелым пологом лежала женщина, на которую имя барона де Каноля произвело такое магическое действие.
Офицер опять исполнил все обыкновенные церемонии, то есть подошел к постели на три шага, поклонился, потом ступил еще на три шага. Тут две служанки, вероятно помогавшие принцессе лечь в постель, вышли, камердинер притворил дверь, и Каноль остался наедине с принцессой.
Согласно обычаю, начинать разговор следовало не ему, поэтому барон ждал, чтобы с ним заговорили. Но, так как принцесса, по-видимому, решила упрямо молчать, молодой офицер подумал, что лучше нарушить приличия, чем долее оставаться в таком затруднительном положении. Однако ж он не обманывал себя и был уверен, что, коль скоро принцесса заговорит, ему придется выдержать сильную бурю, которая угадывалась за этим пренебрежительным молчанием и должна была разразиться при первых его словах; придется подвергнуться гневу этой принцессы, казавшейся ему гораздо более грозной, чем первая, потому что она была моложе и внушала более участия и сострадания.
Но обида, нанесенная ему, придала молодому дворянину смелости. Он поклонился в третий раз — соображаясь с обстоятельствами, то есть учтиво, но холодно, — и, сдерживая раздражение, неизбежное при его гасконском характере, сказал:
— Мадам, я имел честь просить аудиенции у вашего высочества от имени ее величества королевы-регентши. Вашему высочеству угодно было принять меня. Теперь не угодно ли вам знаком или словом показать мне, что вы изволили заметить мое присутствие и готовы выслушать меня?
Движение за занавесками и под одеялом показало Канолю, что ему ответят.
Действительно, послышался голос, но такой слабый, что его едва можно было расслышать.
— Говорите, сударь, — сказал этот голос, — я слушаю вас.