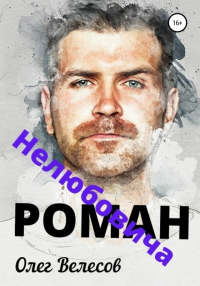Книга Салихат - Наталья Елецкая
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Полностью согласившись с тем, что сказал Джамалутдин, я все равно не могла перестать думать о несчастной Агабаджи, для которой испытания не закончились. Если отец отошлет ее далеко, ей придется из милости жить у родственников, которые изведут ее упреками и заставят выполнять всю тяжелую работу в доме, пока какой-нибудь пожилой вдовец не сжалится и не возьмет ее замуж. А если Агабаджи останется в доме родителей, то не посмеет даже выйти за ворота, не только из страха перед соседями, но и перед Загидом, который поклялся убить ее, пусть Джамалутдин и запретил ему произносить вслух такое. Но, где бы она ни оказалась, вряд ли когда-нибудь она снова увидит дочерей, и об этом мне думать больнее всего, ведь я сама мать, и разлука с детьми стала бы для меня худшим наказанием. Пусть Агабаджи не сильно любит девочек, но она дала им жизнь, а значит, навсегда с ними связана, и рано или поздно захочет обнять их, и это желание со временем станет невыносимым.
Мы с Расимой-апа наблюдаем из окна кухни, как Агабаджи идет позади отца к воротам, перекинув через плечо баул с вещами. Она низко опустила голову, замотанную платком, и старается идти как можно медленнее, не зная, что ждет ее на улице. Слухи по селу распространяются быстро, и наверняка все соседи уже в курсе, что стало с невесткой Джамалутдина Канбарова. Расима-апа удовлетворенно сказала, что никто и не думает обвинять в случившемся Джамалутдина или Загида, так что наш дом остался уважаемым. Услышав такое, я нисколько не удивилась. Мужчины никогда не бывают виноваты за поступки женщин. Если женщина совершила грех, никто не будет разбирать, что толкнуло ее на отчаянный шаг, например на самоубийство. Когда Мина сбежала, не выдержав семейной жизни, ее за это все осудили, а Эмрату-ата только сочувствовали. Родители Мины даже извиняться к нему приходили, да только он их на порог не пустил, обвинив в том, что плохо воспитали дочь.
У самых ворот Агабаджи оборачивается, чтобы бросить последний взгляд на дом, где она несколько лет прожила и где остались четверо ее детей. Может быть, она видит нас, но мы не отходим от окна, а Расима-апа так вообще мстительно улыбается, как будто Агабаджи не ходила у нее в любимицах, пока двойняшек не родила. Мне по-прежнему ужасно жалко жену Загида (бывшую, поправляю себя), я едва сдерживаю слезы, отказываясь верить, что Агабаджи больше не будет с нами. С кем буду пить чай по вечерам? Кто будет присматривать за мальчиками, если мне понадобится уйти? Кто будет помогать с работой? Я успела к ней привязаться и понять, что она неплохая девушка, только характер у нее неуживчивый да ленится иногда. Разве можно было так с ней поступить? Все-таки она была Загиду хорошей женой, хоть и рожала одних девочек. Кто знает, возможно, следующим у нее бы родился мальчик. Но Агабаджи исчерпала свои возможности. Наверняка Загид вскоре приведет в дом новую жену. Интересно, кто это будет? И родит ли она ему сына?..
Когда калитка за Агабаджи и ее отцом закрывается, мы с Расимой-апа приступаем к привычным хозяйственным делам. Я готовлю обед и зову на кухню тех детей, которые уже едят взрослую пищу. Дочери Агабаджи садятся за стол и ждут свою порцию жижиган-чорпа. Они совсем не расстроены исчезновением матери. Дети в наших краях послушные и привыкли делать то, что велят им взрослые. Айше, Ашраф и Асият было сказано, что их мама уехала и вернется нескоро. Айша, правда, пустила слезу, но Джаббар нахмурил брови и погрозил ей кулачком, и та сразу успокоилась. Я не могу сдержаться и ласково глажу девочек по заплетенным в косички волосам, испытывая к ним нежность пополам с жалостью. Мне предстоит присматривать за ними как за своими, пока Загид снова не женится. Но даже когда у дочерей Агабаджи появится мачеха, они останутся мне родными, ведь я никогда не делала разницы между ними и сыновьями. Ну, или почти не делала, ведь к девочкам следует относиться немножко не так, как к мальчикам, иначе во взрослой жизни им будет тяжело привыкать к власти мужчин.
Интересно, как я стану относиться к собственной дочери, когда она родится? Конечно же, буду любить ее не меньше, чем сыновей, но все же воспитывать так, чтобы она не кончила свою жизнь, как Агабаджи… Ай, как хочется верить, что всех моих детей ожидает счастливая судьба!..
Ровно через год после этих событий, в день, когда маленькому Зайнулле исполнилось восемь месяцев, Джамалутдин позвал меня к себе в комнату и сказал:
– Салихат, я уезжаю.
Я совсем не удивилась. Вернее, удивилась, но не тому, что муж уезжает, а тому, что он мне это говорит с таким серьезным лицом, да еще усадив на циновки. Весь этот год он так же, как и все предыдущие, уезжал и приезжал, когда считал нужным. Та история с раненым совсем забылась, больше ничего подобного в нашем доме не случалось, и даже гости – молчаливые бородатые мужчины на машинах с темными стеклами – к нам теперь приезжали очень редко. Я смотрела на него, по-прежнему улыбаясь, не чувствуя беды или чего-то такого.
– Нет, ты не поняла. – Джамалутдин присел рядом на корточки. – Мне надолго придется уехать… – Он помолчал, и пока он молчал, я увидела, что его лицо не только серьезное, но и грустное, возле глаз залегли морщинки, и на лбу тоже морщины, как будто в последнее время ему пришлось много думать. – Может быть… насовсем.
– Насовсем? Как это?
Я не успела испугаться. Только удивилась чуть больше, и все. Подумала – Джамалутдин шутит, но разве шутят с таким лицом и такими вещами?..
– Послушай, – терпеливо, как маленькому ребенку, говорит он мне. – Я уповаю на волю Аллаха и надеюсь, что до такого не дойдет. Я уверен, что вернусь домой… рано или поздно. Но ты должна знать: меня долго не будет. Может, полгода. Понимаешь?
– Нет… – Я качаю головой, отрицая то, что слышат мои уши, это слишком невероятно, чтобы можно было верить, зачем он требует от меня невозможного?!
– Салихат, да будь же серьезна! – Джамалутдин делает глубокий вздох, чтобы не раздражаться, и продолжает: – Загид останется в доме за старшего. Расима-апа, ты, Мустафа и дети станете слушаться его беспрекословно. В мое отсутствие он – это я.
– Зачем ты уезжаешь? Куда?
Я начинаю понимать, что он это серьезно, и меня охватывают отчаяние и ужас настолько сильные, что я впервые нарушаю правило: никогда не спрашивать мужа о его поездках.
– Этого не могу тебе сказать, – твердо говорит он; да и я не ждала другого ответа.
– Но… – Мои губы дрожат, из глаз вот-вот польются слезы, но я пока сдерживаю себя в слабой надежде, что все еще может измениться. – Как мы будем без тебя? Зайнулла совсем маленький, и другие дети… они не смогут…
У меня нет сил спросить то главное, о чем Джамалутдин и так знает: как без него буду я сама? Если он снова скажет про Загида, клянусь, закричу и брошу в стену стакан!
– Мне жаль, Салихат, – Джамалутдин встает и подходит к окну, как всегда делает, когда расстроен, – но чем быстрей ты смиришься, тем лучше для тебя. Мир не разрушится только потому, что какое-то время мы не будем вместе. Ведь жила же ты без меня семнадцать лет.
– Вай, что такое говоришь?! – Я вскакиваю, не своя от ярости и горя. – Когда я в отцовом доме жила, так совсем про тебя не знала, не любила тебя. Думаешь, хотела за тебя идти? Не хотела, да! Но теперь все поменялось, совсем-совсем поменялось, в моем сердце только и есть что одна любовь к тебе и детям. Я все эти годы молчала, Джамалутдин, но не потому, что не боюсь за тебя и мне все равно, где ты пропадаешь днями и неделями, а потому, что молчать приучена! Но каждый раз, как за тобой дверь закрывается, я молюсь Аллаху Милосердному, чтобы вернул тебя в дом живым, не оставил меня вдовой, а наших детей – сиротами. И когда ты возвращаешься, я тебе улыбаюсь и предлагаю поесть, а ты думаешь, Салихат дурочка, ничего не понимает, знай себе улыбается. Так, Джамалутдин? Скажи, так думаешь?