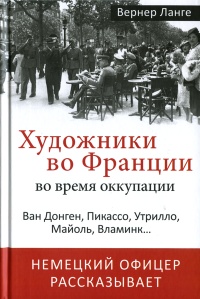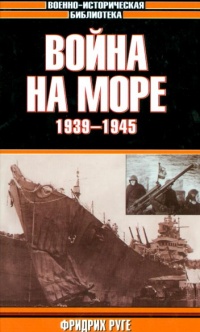Книга Остров на всю жизнь. Воспоминания детства. Олерон во время нацистской оккупации - Ольга Андреева-Карлайл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Перед уходом мама сумела сообщить отцу, что карту, которую нарисовали они с полковником Мерлем, она передаст Володе. Она переночует у Сосинских на мельнице, а мы с Сашей – у Веры Калита. Моей задачей было проследить, чтобы Вера не побежала к полковнику Волю.
Когда мама под конвоем двух солдат с автоматами уходила из “Счастливого дома”, то последнее, что она видела, был месье Гийонне, стоявший на одном из деревянных балконов. Он энергично чистил щеткой свой вечный черный костюм, знак его достоинства как директора муниципальной школы Сен-Дени. Она помахала ему, он украдкой помахал в ответ.
Пока мама добиралась из Боярдвилля в Сен-Пьер, очень сильно похолодало. Ее пропуск не давал права заезжать в Сен-Пьер, и она очень боялась, что ее остановит немецкий патруль. Когда она наконец достигла мельницы, то почувствовала себя Скарлетт О’Хара, вернувшейся в Тару, где она рассчитывала найти безопасность родного дома и где ее ожидали лишь новые и новые бедствия[68]. Хотя Володю и не арестовали, атмосфера на мельнице Куавр была очень напряженная. Это особенно чувствовалось, когда семья сидела за скудным ужином. Володя, всегда такой веселый, в тот вечер был задумчив и молчалив. Ариадну мучил сухой кашель. Только бабушка оставалась сама собой и с обычной заботливостью раскладывала всем поленту с томатным соусом. Мама никак не могла понять, что могло огорчить Сосинских до такой степени. Она достала сложенную карту из резинового сапога и отдала Володе, он рассеянно взял ее. Только когда Алеша пошел спать, они рассказали о случившемся – от малыша новости скрывали.
За четыре дня до этого, 11 декабря, один из русских сбежал с батареи около Сен-Пьера и укрылся на мельнице. Сосинские до этого видели его всего один раз, и он им не понравился. Малорослый и коренастый Рыбов, родом из центральной России, был молчалив и грустен. Товарищи ему не доверяли, он был одним из немногих (таких было не больше дюжины) русских на острове, кто не работал на “Арманьяк”. О его существовании Рыбов не знал, но догадывался, что Сосинские участвуют в деятельности Сопротивления.
Он появился на мельнице после заката и попросил Сосинских его спрятать. Немцы его мучают – больше, чем других. Володя как русский патриот просто обязан помочь ему выбраться на континент. Дядя указал ему на то, что немцы внимательно следят за мельницей, и если его здесь найдут, то всю семью Сосинских расстреляют. Рыбов не двигался с места. Вернуться на батарею он отказался.
Володя указал непрошеному гостю на дверь, и Рыбов впал в ярость. Если его вернут на батарею, немцы его забьют – а он не выносит физического насилия. “Если немцы меня хоть пальцем тронут, я все им расскажу! Все, что знаю, и все, что не знаю, про вас и про всех русских на острове!” У Володи не осталось другого выбора, кроме как позволить беглецу устроиться в здании старой мельницы рядом с домом, он лег там спать прямо на земле, завернувшись в одеяло.
На следующий день Володе удалось уговорить его уйти на винокурню. Там он нашел ему убежище в огромном медном котле, когда-то служившем для производства коньяка.
Теперь котел больше не использовали и перенесли в дальний конец винокурни. Каждую ночь, когда работники уходили и там оставался только старик-сторож, живший в другом конце здания, Володя приносил Рыбову еду и питье. Взобравшись на лестницу, прислоненную к котлу, он сбрасывал припасы вниз. Рыбов жаловался и угрожал, обвиняя дядю в том, что тот хочет выдать его немцам. По всему было видно, что он сходит с ума.
В последующие дни мы с мамой проводили много времени с Верой Калита, которая продолжала настойчиво убеждать маму пойти вместе с ней к полковнику Волю. Мы очень волновались за отца, находившегося в лагере, и за беглеца, прятавшегося на дне котла в Сен-Пьере. Однажды мне удалось раздобыть в мэрии пропуск для свидания с отцом, но когда я добралась до Боярдвилля на его старом велосипеде, меня остановили немцы – посетители в “Счастливый дом” больше не допускались. Я помню охватившее меня жестокое разочарование. Место, где дети когда-то счастливо проводили лето, выглядело теперь не только не уютным, но и даже враждебным. Забор из колючей проволоки и пулеметные гнезда тут и там придавали ему вид настоящего концлагеря.
Отец каким-то образом узнал, что я стою перед воротами лагеря – кто-то из Сен-Дени, должно быть, увидел меня издали. Он вдруг появился с другой стороны забора, пока я ехала вдоль него по тропинке из леса. Он выглядел здоровым, но борода его сильно старила. Мы обменялись несколькими фразами, пока не пришел немецкий солдат и не увел его обратно, не выказывая, однако, ни грубости, ни злости. Отец успел сказать, что у него всё хорошо, несмотря на присутствие гестапо, которое теперь обосновалось в “Счастливом доме” и детально расследует дело каждого заключенного. Насколько ему было известно, деятельность “Арманьяка” так до сих пор и не раскрыли. Я успела только шепнуть ему, что из-за арестов доставку оружия на Сен-Дени отложили. Потом поехала прямо в Сен-Пьер.
Атмосфера на мельнице Куавр была все так же накалена. Ариадна по-прежнему нервно кашляла, хотя, по обыкновению, старалась не показывать свои чувства. Бабушка же, как и положено было старой революционерке, сохраняла спокойствие и пыталась всех приободрить. Мы провели день, читая вслух лермонтовского “Демона”, поэму о средневековой Грузии. Алеша тоже слушал, мы читали до тех пор, пока Володя не вернулся из винокурни. Рыбов вел себя все так же агрессивно и неразумно. Теперь он обвинял Володю в том, что тот хочет его отравить. На винокурню зашел Лева под предлогом, что хочет купить бутылку коньяка. По его словам, дезертир, которого по всему острову искала полиция, очень беспокоил остальных русских.
Володя собирался избавиться от Рыбова и даже принес в рюкзаке топор, но не решился хладнокровно зарубить полусумасшедшего. Надо было просить помощи у группы “Арманьяка” из Ле-Шато.
Володя попросил меня на следующий день рано утром поехать в Ле-Шато. Худенькая четырнадцатилетняя девочка на старом велосипеде не привлечет к себе лишнего внимания. Он был прав – мне без труда удалось передать устное сообщение жене рыбака, жившей на рыночной площади. В то утро чудесная площадь с красивым фонтаном эпохи Ренессанса кишела немцами. Замок над ней – построенный когда-то на том месте, где Алиенора Аквитанская провозгласила первый в истории кодекс морского права, Олеронские свитки[69] – был окружен со всех сторон артиллерийскими орудиями под маскировочной сеткой. Ле-Шато выглядел крепостью, готовой отбить вражескую атаку.
Лицо жены рыбака в течение нашего разговора оставалось каменным. Она была одета во все черное – даже чепец “кишенотт” был черным. Когда я проговорила зашифрованное сообщение: “Пусть Рауль немедленно придет повидаться с Жозефом”, она ничего не ответила. На обратном пути я пыталась вспомнить строки из Олеронских свитков, которые читала когда-то в исторической книге в библиотеке у Лютенов. Они звучали как поэзия, эти законы двенадцатого века – века более разумного, чем двадцатый: