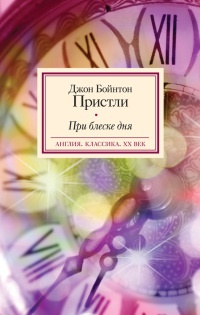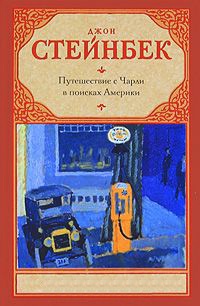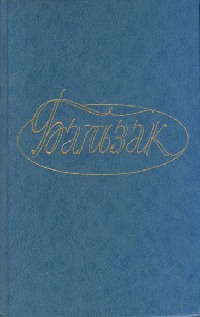Книга Мельмот Скиталец - Чарлз Роберт Метьюрин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Следовавшие за этим строки невозможно было прочесть, должно быть, писались они в большом смятении; порывистость и пылкий нрав моего брата передались его почерку. Пропустив несколько совершенно неразборчивых страниц, я смог различить следующие слова:
* * *
«Странно было подумать, что ты, который был предметом моей застарелой ненависти, после посещения монастыря возбудил во мне участие. Если раньше я принял твою сторону из одной только гордости, то теперь у меня уже были веские основания ее отстаивать. Сострадание, инстинкт – все равно что, но чувство это сделалось долгом. Когда я видел чье-либо презрительное обращение с людьми низших сословий, я говорил себе: «Нет, ему никогда не придется этого испытывать – это же мой брат». Когда, занимаясь чем-либо, я делал успехи и меня за это хвалили, я с горечью думал: «Меня хвалят, а на его долю никогда не достанется похвалы». Когда меня наказывали, что случалось гораздо чаще, я думал: «Он никогда не испытает этого унижения». Воображение мое увлекало меня все дальше. Я верил, что в будущем сделаюсь твоим покровителем, мне казалось, что я смогу искупить несправедливость природы, оказать тебе помощь и возвеличить тебя, добьюсь того, что в конце концов ты признаешь сам, что обязан мне больше, чем родителям, что я кинусь к тебе без всякой задней мысли, с открытым сердцем, и мне ничего не надо будет взамен, никакой другой благодарности, кроме твоей любви. Я уже слышал, как ты называешь меня братом, я просил тебя не произносить этого слова и называть меня своим благодетелем. Гордый, великодушный и горячий от природы, я еще не окончательно освободился от влияния духовника, но всем моим существом, каждым порывом души уже тянулся к тебе. Может быть, причина этого лежит в особенностях моей натуры, которая неустанно боролась против всего, что пытались ей навязать, и с радостью вбирала в себя все то, что ей самой хотелось узнать, к чему ей самой хотелось привязаться. Не приходится сомневаться в том, что, как только во мне стали возбуждать ненависть к тебе, мне захотелось твоей дружбы. Твои кроткие глаза, их нежный взгляд постоянно преследовали меня в обители. На все предложения стать мне другом, исходившие от воспитанников монастыря, я отвечал: «Мне нужен брат». В поведении моем появились резкость и сумасбродство, и в этом нет ничего удивительного: ведь совесть моя стала противодействовать заведенным привычкам. Иногда я исполнял все, чего от меня хотели, с таким рвением, которое заставляло тревожиться за мое здоровье; порою же никакая сила не могла заставить меня подчиниться повседневным монастырским правилам и никакое наказание меня не страшило.
Общине надоело терпеть мое упрямство, резкость и частые нарушения устава. Было написано письмо духовнику с просьбой удалить меня из монастыря, но прежде чем он успел это сделать, я заболел лихорадкой. Меня окружили неослабным вниманием, но на душе у меня была тяжесть, и никакие заботы не могли облегчить моего положения. Когда в назначенные часы мне со скрупулезной точностью подносились лекарства, я говорил: «Пусть мне его даст мой брат, и, будь это даже отрава, я готов принять ее из его рук. Я причинил ему много худого». Когда колокол созывал нас на утреню или вечерню, я говорил: «Неужели они сделают моего брата монахом? Духовник обещал мне, что этого не случится, но ведь все вы – обманщики». Кончилось тем, что они обернули язык колокола тряпкой. Услыхав его приглушенный звук, я воскликнул: «Вы звоните по покойнику, брат мой умер, и это я его убийца!» Эти столь часто повторявшиеся восклицания, которых монахи никак не могли принять, приводили в ужас всю общину. Я был в бреду, когда меня привезли в отцовский дворец в Мадриде. Кто-то похожий на тебя сидел рядом со мной в карете, вышел из нее вместе со мной, когда мы приехали, помог мне, когда меня посадили туда снова. Я так живо ощущал твое присутствие, что часто говорил слугам: «Не трогайте меня, мне поможет брат». Когда утром они спрашивали меня, как я спал, я отвечал: «Очень хорошо, Алонсо всю ночь сидел у моей постели». Я просил ухаживающего за мной призрака не оставлять меня, и, когда подушки были уложены так, как мне хотелось, говорил: «Какой у меня добрый брат, как он ухаживает за мной, только почему же он не хочет со мной говорить?» На одной из остановок в пути я начисто отказался от всякой еды из-за того, что призрак, как мне чудилось, отказывался ее принять. Я говорил тогда: «Не заставляйте меня есть, видите, мой брат не принимает никакой пищи. О, я прошу его простить меня, сегодня у него день воздержания, поэтому он и не притрагивается к еде, смотрите, как он верен своим привычкам, – этого достаточно». Самое удивительное, что еда в этом доме оказалась отравленной, и двое моих слуг умерли, так и не доехав до Мадрида. Я упоминаю об этих обстоятельствах для того только, чтобы показать, как крепко ты приковал к себе мое воображение и как сильна была моя любовь к тебе.
Как только ко мне вернулось сознание, первый же мой вопрос был о тебе. Родители мои это предвидели, и для того чтобы избежать объяснения со мной и последствий, которые оно могло иметь, ибо знали мой горячий нрав, поручили все это дело духовнику. Он взялся за него, а как он его выполнил, ты сейчас узнаешь. При первой же нашей встрече он принялся поздравлять меня с выздоровлением и сказал, что очень сожалеет о тех неприятностях, которые мне пришлось испытать в монастыре, заверив меня, что в родном доме меня ждет поистине райская жизнь. Какое-то время я выслушивал все, что он говорил, а потом вдруг спросил:
– Что вы сделали с моим братом?
– Он в лоне Господнем, – ответил духовник и перекрестился.
За мгновение я все понял. Не дослушав его слов, я кинулся вон из комнаты.
– Куда ты, сын мой?
– Я хочу видеть отца и мать.
– Отца и мать? Сейчас это невозможно.
– Но все-таки я их увижу. Не навязывайте мне своей воли, не срамите себя этим постыдным самоунижением, – сказал я, видя, что он сложил руки в мольбе, – все равно я увижу отца и мать. Проведите меня к ним сию же минуту, не то берегитесь, от вашего влияния на семью не останется и следа.
При этих словах он вздрогнул. Он боялся не того, что я могу повлиять на моих родителей, а моей ярости. Ему приходилось теперь пожинать плоды своих же собственных наставлений. Его воспитание сделало из меня человека порывистого и страстного, ибо ему все это было нужно для определенной цели, но он никак не рассчитывал, что дело примет иной оборот, что все чувства, которые он пробудил во мне, устремятся в направлении, противоположном тому, которое он хотел им придать. Он был уверен, что будет в силах распоряжаться ими и впредь. Горе тем, кто учит слона поражать своим хоботом врагов и в то же время забывает, что за один миг он может повернуть этот хобот назад и, сбросив седока в грязь, потом его растоптать. Именно в таком положении очутился и духовник по отношению ко мне. Я настаивал, чтобы меня немедленно отвели к моему отцу. Он противился нашей встрече, молил меня не настаивать на ней и, наконец, прибег к последнему безнадежному доводу – напомнил мне о том, сколько снисхождения он мне выказывал и как потворствовал всем моим желаниям. Ответ мой был коротким, но если бы только он мог проникнуть в душу таким наставникам и таким священникам! Это и сделало меня тем, что я есть теперь.