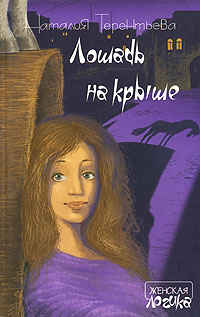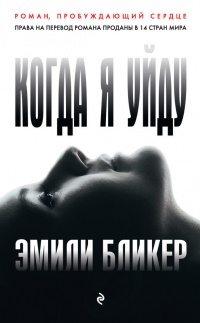Книга Айдахо - Эмили Раскович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И все это время на заднем дворе жена белила комод.
Надо было мне, надо было мне, надо было мне. Под молчание жены мозг сам перебирал ошибки. И как только ей удавалось – всю их совместную жизнь – видеть стыд, который он прятал, видеть все его недостатки, которые она, должно быть, заметила с первого взгляда почти пятьдесят лет назад?
Мужчина осел на землю.
Надо было нам…
Но закончить фразу она не могла, руки мужа так крепко ее обхватывали, что не понять его просьбу было невозможно.
Бет все видела из гостиной. Два дня она ждала случая поговорить с ним, но эти два дня его почти не было дома. Он провел их на горе, примыкавшей к их полю, ездил вверх-вниз, без нее.
В открытое окно ворвался ветерок, он холодил ее кожу всюду, где ее не касался муж. Комод так и стоял на заднем дворе, странный и сияющий, недокрашенный. Два дня назад, когда они вытащили его во двор, ей было не так уж принципиально, какого он цвета. Просто надо было куда-то истратить энергию, вернуть себе ощущение цели.
Ощущения цели не возникло. Возникла лишь усталость. Слова мужа про палисадник ее задели. Что дальше, прозрачная пленка на мебели? Такого он, конечно, не говорил, но они подбирались к этой точке все ближе и ближе. В последние годы в ней поселилась тревога. Взять хотя бы лошадей. В какой-то момент она начала покупать фигурки лошадок и расставлять их по всему дому. Нефритовые лошадки, лошадки из кварца, фарфоровые лошадки, далекарлийские лошадки с цветочными узорами на мордах, деревянные и тряпичные табуны. Когда-то она была той еще лошадницей. Когда-то лошади были для нее всем. Ведь это же важно. И должно быть как-то представлено. Однажды она поняла, что от девушки, увлекавшейся лошадьми, не оста[13]лось и следа, и это ее напугало. Все забудут, что она каталась на них, любила их, если ничто в доме не будет об этом напоминать – мол, видите?
Аккуратно расставляя по полочкам дешевое барахло, она мало-помалу превращала их просторный, уютный дом в жилище стариков. А Уильям от этого задыхался, ему было тесно. Та же фарфоровая кобыла в ванной с надвинутой на глаз шляпкой, скрещенными копытцами и при марафете – какое тошнотворное зрелище. И о чем она только думала, когда, точно заразу, тащила все это в дом? Она собирала, расставляла, доказывала, контролировала и не могла остановиться. Видите? Видите? А потом руки у нее дошли и до палисадника. Его строгая, безупречная красота провозглашала: Бет до сих пор сама решает, что менять, а что оставлять. И посмотрите, как он преобразился, все на своем законном месте, в своих пределах.
Вот о чем она думала, пока белила комод, вот какие мысли выплыли на поверхность из-за небрежно брошенного мужниного упрека. Природа задыхается. Она сделала радио погромче, потому что боялась, что расплачется.
Затем она прошла в дом, с кисточкой в руке, и слезы уже свободно катились по щекам. Но, войдя в гостиную, она увидела, что передняя дверь открыта, и сквозь дверной проем разглядела Уильяма и незнакомого мужчину.
В прямоугольнике света Уильям поддерживал их обоих – и незнакомца, и себя. Никогда прежде она не видела, чтобы муж кого-то так обнимал. Детей у них не было. Ладонь Уильяма на затылке незнакомца. Голова незнакомца у Уильяма на груди. Целую вечность они стояли в обнимку, эти двое, и сама Бет тоже не могла сдвинуться с места. Уильям зажмурился, голова склонилась к голове незнакомца, старый нос зарылся в молодые каштановые волосы, вдыхая их запах, отец и сын.
Все в ней перевернулось. Все, что она делала дальше, было следствием тех мгновений, когда Уильям обнимал незнакомца.
– Надо было нам… – проговорила она сквозь слезы. Но Уильям, хоть и не шелохнулся, хоть и не стиснул ее еще крепче, все равно сопротивлялся. Они были женаты почти пятьдесят лет. Она так хорошо изучила его тело, что понимала значение не только его движений, но и его покоя.
Два дня назад она вернулась из полицейского участка раньше Уильяма. Дома она открыла ящик, где были сложены бумажные пакеты, достала оттуда один пакет, развернула и встряхнула. Затем прошлась по всему дому, комната за комнатой, медленно, тщательно, собирая лошадиные фигурки. Нефритовые, хрустальные, фарфоровые, тряпичные.
Потом она пошла в спальню, засунула пакет под кровать и легла поверх покрывала в падавшем из окна свете, размышляя не об убитой девочке, а о том, как Уильям обнимал ее отца. Стоя посреди гостиной, она увидела пятьдесят лет другой жизни, другой разновидности любви – той, до которой она чуть позже попыталась дотянуться, когда обнимала женщину на гравийной дорожке. Обнимала невзирая ни на что, беззаветно, но лишь потому, что ее научил этому Уильям, лишь потому, что Уильям обнимал мужчину.
Она прижалась щекой к щеке Уильяма, почувствовала колючие серые усы.
Он всю жизнь ее терпел, поэтому она потерпит ради него, не станет говорить о своих чувствах. Она не огорчилась из-за этой своей ошибки, а скорее удивилась тому, что ошибалась, обрадовалась, что теперь во всем разобралась. Она ощутила, как распахнулось ее сердце, – спустя столько лет, так внезапно, – ощутила, как он в это сердце вошел и, не поместившись там, вышел за его пределы, почувствовала боль своей любви, подивилась своей уверенности, открыла – спустя столько лет – себя другую, ту себя, которая по-настоящему знает Уильяма…
В сопровождении шестерки гончих, без которых Уэйд и шагу не ступит, Энн с Уэйдом снесли лодку по тропе, ведущей от дороги к берегу реки Панд-Орей, осторожно поставили у кромки воды в тени и привязали к дереву, хотя попутно им пришло в голову, что обычная весельная лодка не годится для этой реки, что надо было взять напрокат каноэ или поехать на озеро.
Но Энн все равно залезает в лодку с корзиной для пикника в руках. Смеется. Не дав ей усесться, Уэйд отталкивает лодку от берега и запрыгивает внутрь, окатывая Энн фонтаном брызг. Их относит к середине реки, а потом мягкий толчок, веревка туго натягивается. Они стоят на согнутых ногах, держась друг за друга для равновесия, и смотрят на берег, где, выстроившись изумленной шеренгой, принюхиваются к ветру собаки. Под лодкой и по бокам плещется вода. Мало-помалу лодку снова относит к берегу, вниз по течению, насколько хватает веревки, и вот она уже скребет дном по песку, а по бортику хлещут ветки жимолости, которые приходится отводить руками.
Из кустов с треском вырываются собаки, окружают лодку, ставят грязные лапы на бортик, лают.
День выдался жаркий. Они сидят на металлических сиденьях в этом тайном месте и едят сэндвичи. Весла остались на берегу там, где они отплыли. Их теперь уже не видно. Не видно ничего, кроме реки, и кустарника, и шестерки собак с высунутыми языками, выпрашивающих угощение. В уютном молчании Энн с Уэйдом пьют кофе из термоса, пальцами запихивают шарики арбузной мякоти в рот, а сок так и течет на коленки. Закончив, они споласкивают липкие руки в реке, и Энн опускает ноги в неглубокую струящуюся воду. И пока они так сидят – Энн спиной к берегу, с опущенными в воду ногами, Уэйд лицом к Энн, на металлическом сиденье, – он говорит: