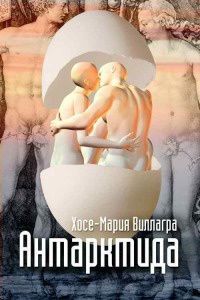Книга Последнее странствие Сутина - Ральф Дутли
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Гард! Я не сразу заметил тебя. В центре мира было так много прохожих. «Ле-Дом» был настоящей голубятней, там говорили на всех языках, кто-то прибывал, кто-то улетал, тебя знакомили то с одним, то с другой, и в следующий миг вы теряли друг друга из виду. Мимолетные голубки, посланники случая.
Мы едва обменялись десятком слов. Но в последующие дни я искала его, я снова встретила Карлоса, сказала ему, что хочу снова увидеть этого художника, вы знаете какого, и Карлос отвел меня к Сутину на Вилла-Сера. Боже мой! Казалось, в этой квартире все было грязным. Мебель пыльная, вся в пятнах, пол усеян окурками, мастерская – сплошная пепельница. Человек, который обитал здесь, казалось, живет во сне и не замечает ничего этого. Он жил, как кошка, которую бросили хозяева. Все было запущенным, жалким, потертым.
Гард! Рембрандтовская Хендрикье, входящая в реку, подобрав нижнюю рубашку, обнажая бедра… Она смотрит в воду. Модильяни никогда не рисовал ничего столь прекрасного, Гард! Она находится не в Лувре, а в Лондоне, я хотел поехать туда, только чтобы увидеть эту картину, женщину, входящую в реку, у меня была репродукция, которую я повсюду таскал с собой, прикалывал кнопками к стене. Не проходило ни дня, чтобы я не бросил на нее взгляд. Гард! Женщина, входящая в реку!
Он извинился, что не может предложить нам аперитив. У меня болезнь желудка, сказал он, спиртное мне нельзя. У него был граммофон, и он хотел поставить нам что-то из Баха, восхищался, насколько это прекрасно. Он открыл свою мастерскую, но я не увидела никаких картин, она была пуста и при этом не прибрана. Мне было все равно, я пришла не для того, чтобы увидеть художника. Я жила тогда в маленьком номере в Hôtel de la Paix на бульваре Распай, пригласила его послезавтра на чай с друзьями, купила торт и цветы. Он не пришел. Он не придет, сказал один из гостей. Это всем известно, у Сутина даже нет часов. Он забывает про любое свидание. Была уже почти ночь, маленькая комнатка плыла в облаке сигаретного дыма. Наконец, улыбаясь, пришел Сутин. Он плеснул немного чая в чашку, долил доверху молоком. Все разошлись, он остался последним. Он вспомнил, что вечером на Vélodrome d’Hiver кетч, мы поехали туда на такси. Сутин взял для нас лучшие места, у самого ринга. Он был весел, шутил. Я не знала толком, что такое кетч. Это очень хороший вид спорта, объяснил Сутин с торжественной улыбкой. Разрешается бить ногой по лицу и даже бодать головой в живот. Он засмеялся тихим смехом и мягко коснулся уголков рта кончиками среднего и большого пальцев.
Гард! У нашего воскресенья было имя. Мы часто ходили в Лувр. Я был убежден, что картины следует смотреть только в одиночестве, я верил в это десятилетиями. Теперь у каждого из нас было четыре глаза, и я видел все заново. Гард! Подошвы ног ангела, покидающего Товию! Добрый самаритянин! Как он, стоя на лестнице, оглядывается на избитого грабителями человека. Вирсавия с письмом Давида! Вирсавия! Маленький церковный служка с кропильницей и кропилом на Похоронах в Орнане Курбе! Помнишь ли ты маленького служку? Его взгляд? И ската Шардена, не забудь про ската! Лувр был для нас воскресеньем. Воскресенье было Вирсавией, маленьким служкой, скатом.
Внезапно он поднялся, еще до конца последнего боя, ему стало нехорошо. Невыносимое жжение в животе. Он хотел немедленно отправиться домой и попросил меня проводить его. Внезапно он стал жалким и доверчивым, как будто знает меня уже давно. Я помогу вам, я буду о вас заботиться, сказала я. На Вилла-Сера я приготовила ему грелку и принесла стакан теплой воды «Виши». Его боль успокоилась. Он закурил и начал говорить, рассказывал о своей болезни, которая мучает его уже несколько лет. В юности плохое питание и алкоголь испортили ему желудок. Время от времени он повторял страдальческим голосом: Вы ведь не оставите меня?
Гард! У нас верят, что каждый человек имеет в своем теле крошечную косточку, называемую миндалиной. И знаешь, где она находится, эта миндальная косточка? Вблизи шейного позвонка, атланта. Она таит в себе душу человека, его внутреннее ядро. Гард! Эта косточка не поддается разрушению. Даже если все тело человека растерзано, сожжено, уничтожено – миндальная косточка остается нетленной. Это искра неповторимости человека. И, как верят, при воскрешении человек будет воссоздан из этой маленькой косточки. Я никогда не верил в воскресение, даже тогда, в нашей смиловичской пыли, я не мог в это поверить. Мы можем ждать вечно, Машиах так и не вспомнит о нас. Но в косточку я верю по сей день. Когда ты была в Гюрсе, я говорил с твоей миндальной косточкой, шептался с ней.
Но успокоение продолжалось недолго, боли возобновились и стали даже мучительнее, чем раньше. Я приготовила еще одну грелку, он уснул. Я полночи смотрела на него, как он спал, и он казался красивым, распростертый в своей ужасающей худобе. В конце концов я, обессилев, опустилась на постель рядом с ним. Когда на рассвете я встала и собралась уходить, он всполошился: Герда, вы ведь не уйдете? Он схватил меня за руку: Герда, сегодня ночью ты была моей хранительницей, ты держала меня в своих руках, теперь я держу тебя! Ему не нравилось мое немецкое имя, и так он окрестил меня Гард, его ночной стражницей, его хранительницей. Я стала уже забывать мое имя Герда.
Гард! Я все еду и еду в Париж, как тогда, в 1913 году. Я теперь не из Вильны, а с Луары, рядом с демаркационной линией. Сегодня нет смысла переходить ее, я слишком долго ждал. Мне нужно на операцию. Я еду в белый рай. Я еду в молочную страну.
Он был загадочным, одиноким, полным недоверия. Все в нем было странным и чужим. Я жила с ним, не имея понятия, что он за художник. Работая в мастерской, он не терпел, чтобы его беспокоили. Он использовал множество кистей и в запале работы бросал их одну за другой позади себя на пол. Тюбики из-под краски, кисти валялись повсюду, смятые и разодранные. Иногда он наносил краску руками, намазывал ею кончики пальцев, и краска оставалась под ногтями, ее невозможно было смыть. Закончив работу, он ставил картину лицом к стене, чтобы никто не мог ее видеть. Он совершенно серьезно запрещал мне смотреть его картины. Запирал их в шкафу. Ограждал от моих нежеланных взглядов. И я ни о чем не просила. Мне было достаточно жить рядом с ним. Мы были созданы для того, чтобы понимать друг друга, я любила его. Вот и все.
Гард! Никто никогда не видел моих картин. Они были невидимы, как и я сам. Я боялся посмотреть на них снова, боялся услышать из них голос, приказывающий мне уничтожить их, распороть холст ножом, сжечь дотла. Я никогда не рисовал тебя, чтобы мне не пришлось тебя сжечь.
Два года перед войной мы с Сутиным проживали каждый день как единственный, наслаждаясь каждым текущим часом, радостью быть вместе, тихой сладостью хрупкого счастья. Мы добровольно отринули наше прошлое и закрыли глаза перед будущим.
Гард! Кто знает, что такое будущее. Это ягода малина. Оно будет холодным, там никто не будет любить нас так, как мы любим друг друга сейчас. Это пустыня. Полынь, отсутствие. Там стоят одни незнакомцы, которые качают головой, закрывают глаза перед нами. Гард! В Минске и Вильне я скорее хотел в будущее, я был нетерпелив, я спешил. Париж уже ждал в будущем, я стремился туда. Но будущее отвлекает от картины, которая возникает внутри нас. Остановить время – вот что стало моим желанием тогда, в Улье, и грубый холст с неохотой подчинялся мне.