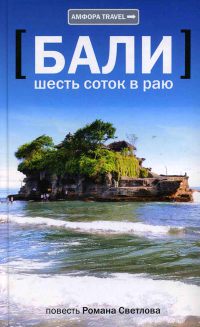Книга Седьмая печать - Сергей Зайцев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но если мы лишены возможности даже приблизительно набросать портрет, сколько-нибудь передающий образ этого человека в морфологическом смысле (в смысле строения внешних форм, наличия тех или иных внешних признаков, особых примет), то у нас есть замечательная возможность живописать некоторые его качества, иными словами, и если можно так выразиться, — подойти к портрету героя с физиологической стороны, а точнее со стороны физиологии органов чувств. Дело в том, что у Охлобыстина от природы были очень развиты органы чувств. Но более всего — нюх. У сыщика Охлобыстина нюх был очень чуткий, идеальный нюх. Об этом никто не знал, поскольку главное качество своё, невероятный дар свой, помогающий заработать верный кусок хлеба, выгодно отличающий его от других людей, а главное от других филёров, Охлобыстин старательно скрывал. Даже его близкие не подозревали о бесценном его даре. Очень давно, в детстве ещё, Охлобыстин с другими мальчишками воровал яблоки в чьём-то саду, по оплошности сорвался с яблони и, упав, пресильно ударился головой. Слава богу, остался жив, но голова болела долго. А как перестала болеть, так и обнаружил в себе юный Охлобыстин чудесный дар — нюх едва не собачий. О, каким богатым на впечатления сразу сделался для него мир!.. И он понял, как бедна жизнь обычного человека, лишённого такого дара, лишённого собачьего нюха!.. Будто третий глаз открылся для Охлобыстина, ибо даже со смежёнными веками он видел, как примерно «видит» собака, дремлющая в конуре, что делается вокруг в пределах сотни-другой саженей, а может, и ещё дальше, «видит», как кто-то смело идёт, как кто-то злонамеренный взволнованно крадётся, как кто-то испуганно пускается наутёк, «видит», какое вкусное блюдо готовят там-то и там-то, а какое ещё дальше — через дом, через избу — да какие пряности, какие корешки в варево добавляют. Обоняние было столь сильно, что Охлобыстин мог, высунув нос из-за угла, но не выглядывая, с точностью сказать, много ли народу идёт, да чего несут. Проходя мимо открытого окна, Охлобыстин мог знать, присутствует ли в доме мужчина во цвете лет и желаний, или, быть может, молодица кормит там грудью малыша, или дети играют с котёнком, или лежит на смертном одре при последнем дыхании древний старик. В летний полдень, проходя по полю, Охлобыстин слышал нежные запахи поднимающихся из земли молодых растений, он слышал запахи бабочек, вьющихся над зреющими колосьями ржи, он слышал запахи дикого зверья, прячущегося в лесу, он слышал бесконечное разнообразие ароматов полевых цветов... Охлобыстин различал не только запахи сладкие, кислые, горькие, приятные, неприятные, резкие или мягкие, экзотические, но даже и запахи грустные, весёлые, романтические, зовущие, угрожающие и т.д. Он ясно слышал особый запах женщин, какой бывает у них в смущённые дни. Как любая собака, он слышал запахи, какие свои бывают у каждого человека — неповторимые, как лицо, как голос, как отпечатки пальцев. Он любил стоять лицом к ветру, потому что ветер всегда приносил ему «видение» целого мира, иногда очень далёкого — в котором он никогда не бывал и пешком до которого дойти бы не смог. Порой он слышал запах, какой ветер приносил из-за моря, — тревожащий воображение запах чужой жизни. Примерно такой же запах доносился до него, когда по Неве поднимались корабли из западных стран. Иные запахи доставляли Охлобыстину нужные сведения, иные приносили ему удовольствие или радовали его, от иных у него портилось настроение, а иные раздражали или даже злили его. Так, из-за резких отвратительных запахов он терпеть не мог потных и пьяных мужиков, чуть не с утра торчавших в трактирах, а к вечеру штурмовавших конки; от мужиков этих разило потом, воняло сладко-ядовито крепким самосадом, гнилыми зубами, сивухой, прогорклым салом, луком и кровью. Терпеть он не мог и нечистоплотных девок; в запахе, исходящем от них, ему слышалось что-то бесстыжее; этих девок он отчётливо «видел» с закрытыми глазами: у всех у них были красные рожи и приоткрытые слюнявые рты — обличье бесстыжести. Неприятны Охлобыстину были и господа, которые курили трубки, пусть и набивали они свои трубки дорогим заграничным табаком; господа эти источали неистребимый, очень въедливый и подавляющий остроту нюха запах неперегоревших смол, тех липких, жёлтых смол, что оседают на стенках трубки и на зубах у курильщиков. Так же, как эти господа, неприятны были Охлобыстину дамы, злоупотреблявшие парфюмом: покрывавшие лицо толстым слоем душистых пудр, обильно мазавшие губы сладкими помадами, неумеренно орошавшие себя духами и полагавшие, что становятся от всего этого привлекательнее; дамские запахи были ужасно прилипчивые, и после встречи с такой дамой Охлобыстин долго не слышал никаких иных запахов и ходил будто слепой — как все другие люди...
Выше мы говорили, что по части особых примет у Охлобыстина было никак. Это мы, пожалуй, поторопились сказать; это мы, наверное, ошиблись. У него имелась одна особая примета, у него имелась одна очень заметная морфологическая деталь, за какую цепляется взгляд любого стороннего человека, а тем более взгляд приметливого художника, и какую мы можем здесь без труда описать. О чём же речь?.. Нет ничего удивительного в том, что при таком чутком нюхе нос у Охлобыстина был длинный и подвижный. Нам уже понятно: нос этот предназначен был не столько для того, чтобы украшать невыразительное лицо Охлобыстина, и даже не столько для того, чтобы через него дышать, сколько для того, чтобы вынюхивать, пронюхивать, обнюхивать, внюхиваться, принюхиваться и т.д.; можно было бы вставить в этот ряд ещё и «занюхивать», но Охлобыстин не пил; можно было бы вставить ещё «снюхиваться», но он был одиночка, привык полагаться в жизни только на себя. Нос у Охлобыстина был великолепный: тонким, острым шильцем устремлённый вперёд, с хорошо развитыми ноздрями. Когда Охлобыстин ловил какой-либо запах, когда держал нос по ветру, ноздри у него шевелились и едва не поворачивались в поисках источника запаха, как поворачиваются уши у волка в поисках источника звука, крылья носа приподнимались сзади и становились распростёртыми, как крылья взлетающей птицы.
Длинный нос — выдающаяся деталь. Вот в этом и была обратная сторона медали. В своё время из-за длинного носа Охлобыстина даже не хотели брать в штат Третьего отделения. Известно, для филёра важна неприметная внешность — чтобы наблюдаемый, выслеживаемый не выделил его из массы случайных людей и не запомнил. Длинный же нос — деталь запоминающаяся. Но потом всё же махнули на его нос рукой. Бывают и более заметные особые приметы; как то: горб, башенный череп, косоглазие, кривое лицо, большой рот, редкие зубы, родимое пятно, оттопыренные уши, заячья губа, колченогость, всевозможные увечья, смазливость, безобразность и пр. К тому же Охлобыстин весьма подходил Третьему отделению по всем другим статьям: у него было отменное здоровье, он был вынослив, как выносливы все сухощавые люди (мог тридцать вёрст пройти и не почувствовать усталости, мог часами сидеть или лежать без движения — наблюдать), у него были хорошие зрение и слух (хотя и не такие хорошие, как нюх), исключительная память, и от других филёров его отличало достаточно сносное и подходящего характера образование — года два он учился на юридическом в университете, но на учёбу не хватило средств и пришлось её бросить. Пожалуй, из всего отряда петербургских филёров, осуществлявших наблюдение за объектами заинтересованности тайной полиции, проводивших розыск государственных преступников по имеющимся приметам и признакам поведения, Охлобыстин был лучшим. Имелись, конечно, в рядах филёров отдельные ловкачи, про которых можно было сказать «он способен козюлей муху влёт сшибить», но возможности их отличались от возможностей Охлобыстина так же разительно, как отличается обычная ловкость от Богом дарованного таланта. В сложных ситуациях он умел принимать неординарные решения, поскольку умел мыслить нестандартно. Его действия чаще, чем действия других, приводили к желаемому результату; его обвинения рано или поздно подтверждались, указанный им след обязательно выводил на злоумышляющего против законных властей. В своих ежедневных письменных рапортах и еженедельных сводках Охлобыстин всегда был честен и никогда не делал приписок, не выдумывал фактов в стремлении заслужить одобрение начальства. Те немалые деньги, что платила ему «охранка», Охлобыстин отрабатывал сполна. Если требовали интересы дела, он работал и в ночь, и за полночь, и в зной, и в стужу, страдал от пронизывающего ветра, мокнул под дождём, забывал ради государственной службы о собственных нуждах. При своих успехах и при столь бросающейся в глаза особой примете Охлобыстину удавалось оставаться для политических секретным агентом; его не вычислили, за ним не охотились, как охотились народники за некоторыми другими успешными филёрами (часто на совещаниях филёрам объявляли: тот тайный агент застрелен, этот найден удавленным, а какой-то вообще бесследно исчез; недавно, говорили, в Москве был убит полицейский агент Рейнштейн; призывали: остерегайтесь, господа, избегайте ходить поодиночке, не действуйте на свой страх и риск, свистите в свисток, вызывайте подмогу); а если кто и вычислил, если кто из «объектов заинтересованности» и узнал его в лицо в несчастливый для себя день, так те либо томились уже за толстыми стенами Петропавловки, либо были уже от Петербурга далеко, мерили шагами Сибирский тракт, громыхали кандалами. Вполне возможно, что этому филёр Охлобыстин должен быть благодарен той своей повадке, о какой мы говорили выше, — повадке оглядываться, и «охотник» ни разу не стал тем, за кем охотятся.