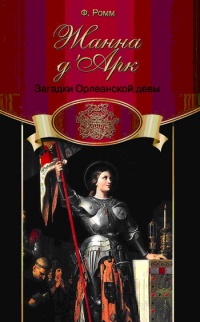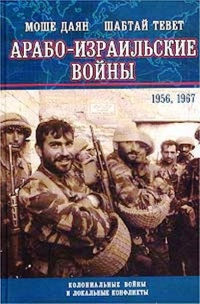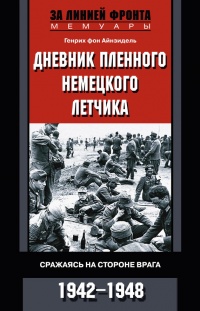Книга Одиночество. Падение, плен и возвращение израильского летчика - Гиора Ромм
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
27 февраля 1971 года, через тринадцать с половиной месяцев после моего возвращения из плена, я поднялся с аэродрома 101-й эскадрильи и совершил одиночный полет. Двумя днями ранее я летал на двухместном «Мираже» на авиабазе Рамат-Давид. Моим напарником был командир здешней эскадрильи «Миражей» Ури Эвен-Нир[65], который должен был проверить, как я пилотирую.
Теперь в небесах над авиабазой Хацор я был совсем один.
* * *
Армейское летное училище было пределом мечтаний для израильской молодежи; о нем ходили легенды. По всей стране в больших городах и небольших поселках, в киббуцах и сельскохозяйственных поселениях можно встретить интеллигентных талантливых молодых мужчин, в чьей биографии значилось кратковременное пребывание на курсах подготовки пилотов. По правде говоря, лишь одному из десяти удается окончить курс и получить право носить на левой стороне груди нашивки в виде крылышек. Всякий поступивший в летное училище знал, что с этого дня все шансы против него. Поэтому я никогда не верил, что смогу сделать это и стать военным летчиком.
Это было всего восемь лет назад. Мне было семнадцать, сразу после армейского интерната. В тот день, когда начался курс, я был одним из ста пятидесяти кадетов, талантливых и очень амбициозных выпускников, готовых на все, чтобы попасть в израильское добровольческое подразделение номер 1.
Через два года нас, выпускников летного курса-43, оказалось всего четырнадцать.
Когда я впервые коснулся заветных крылышек, приколотых к моей груди командующим ВВС, у меня буквально дрожали руки. Только десять выпускников получили распределение на истребители. Я был одним из тех, кому предстояло летать на самолетах с экипажем из одного человека, причем первый полет всегда сольный. Сначала я летал на французском «Урагане»[66], а затем начал службу в эскадрилье, летавшей на «Супер Мистэре» — первом в израильских ВВС истребителе-перехватчике с форсажем.
Через полтора года после получения крылышек мы с Иланом Гоненом[67] удостоились повышения — были переведены в эскадрилью, вооруженную модернизированными «Миражами». Обычно эти самолеты доверяли пилотам намного старше и с гораздо большим опытом. Летом 1965 года, в день моего первого сольного полета на этом самолете, напоминающем ракету, перед моими глаза вновь встала картина ста пятидесяти юношей, начавших курс вместе со мной. Тогда мне исполнилось двадцать лет и три месяца, и под моими летными крылышками к моей форме была пришита напоминающая череп эмблема эскадрильи «Миражей» с авиабазы Хацор.
— О чем еще можно мечтать? — думал я тогда и в тот момент знал абсолютно точно: ни о чем.
Невозможно адекватно описать ощущение, возникающее за штурвалом самолета. Прежде всего это ощущение полного, абсолютного одиночества. Ты карабкаешься по лестнице в кабину, ставишь на кресло сначала правую, потом левую ногу, аккуратно сползаешь, принимая сидячее положение, и с помощью аэродромной команды начинаешь пристегиваться к креслу, вернее, к самолету. Они протягивают тебе защитный шлем, помогают закрепить в нужном положении системы подачи кислорода и связи, снимают предохранительные защелки с катапультируемого кресла, а затем спускаются на землю и убирают лестницу, в это время ты закрываешь прозрачный фонарь. С этого момента все, что происходит, происходит только с тобой, и рассказать об этом другим очень трудно.
Как передать ощущения, возникающие в момент первого отрыва от земли? Или во время полета над слоем серебристых облаков, в которых отражается свет полной луны? И уж тем более невозможно описать, что значит лететь почти со скоростью звука на высоте двести футов, а затем резко перевести самолет в вертикальное положение, носом к бескрайнему небу, и видеть, лежа на спине в своем кресле, как горизонт скользит вниз и исчезает из виду, а вместе с ним и земля.
Как объяснить, что происходит, когда сердце замирает при виде пламени вспыхнувшего двигателя? Или что происходит с твоим дыханием, когда ты покрываешься испариной, сообразив, что потерял ориентацию в пространстве во время одиночного ночного полета над открытым морем? Как передать ощущение сверхусилий, необходимых в те несколько минут, когда вы с товарищами по эскадрилье проводите учебный воздушный бой и при этом прекрасно знаете, что в настоящем бою придется еще тяжелее?
Возможно, именно поэтому о воздушных боях, по сравнению с другими разновидностями боевых действий, написано так мало книг. И, может быть, именно поэтому со временем летчики становятся молчунами, помешанными на технике и редко удостаивающими своим посещением поэтические чтения и другие подобные мероприятия.
Я был самым молодым пилотом, когда-либо летавшим на «Мираже». Поэтому не прошло много времени, прежде чем я поверил, что если я и не король неба, то, по меньшей мере, один из принцев.
1971–1972 годы
Родители военнопленного — отдельный мир. Все те годы, что я был в армии, у моих родителей, иммигрировавших в подмандатную Палестину еще в двадцатые годы, будучи юными сионистами, жизнь тоже была нелегкой. Тем не менее они никогда не пытались меня отговаривать и не показывали своей тревоги. Когда же они позволяли себе выказать беспокойство, речь неизменно шла о судьбе страны или еврейского народа.
Все время, пока я находился в Египте, мои родители твердо отказывались что-либо предпринимать в обход или через голову ВВС, избегали любых контактов со средствами массовой информации, которые непрерывно осаждали и их, и Мирьям. Они выбрали жить обычной повседневной жизнью, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что они заслуживают какого-то особого отношения. Когда родственники во Франции предложили попробовать заручиться помощью бывшего премьер-министра Мишеля Дебре[68], на которого у них был выход, мои родители твердо отклонили это предложение.
«О Гиоре позаботится государство Израиль, и никто другой!» — повторяли они снова и снова. В конце концов, именно ради этого они уехали из Польши, отец в девятнадцать, мать в шестнадцать лет. Мы никогда об этом не говорили, но в душе я глубоко благодарен им за то, что они оказали мне честь столь благородным поведением.
Тем не менее я понятия не имел, не сделал ли их жизнь невыносимой, вернувшись в боевую авиацию. Мирьям, вынашивая нашего первенца, была на шестом месяце, когда я вернулся в строй и снова начал летать. Она никогда не пыталась меня отговаривать. Для нее я был неуязвимым. Ей казалась, что я наделен какой-то сверхчеловеческой живучестью. Кроме того, она, как и я, верила, что полеты являются важнейшей и неотъемлемой частью «лечения», которое сделает меня таким же Гиорой, каким я был до 11 сентября 1969 года.