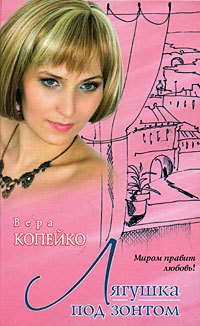Книга Люди черного дракона - Алексей Винокуров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И что, казалось бы, бедной Бейле влюбиться в своего же еврея, благо достаточно их к тому времени подросло на тучных берегах Амура — еврея смуглого, чернокудрявого, с веселым цыганским взглядом, с повадкой конокрада? Тем более среди ее окружения был уже один такой, Натан его звали, похаживал вокруг нее, глазел-пялился в упругие белые телеса острым глазом — глубже, чем девичьей скромности дозволено, — задирал, бросал шуточки, на сеновал приглашал, шлепал Бейлу по всему, до чего рука дотянется, — шлепал крепче, чем девичьему благоразумию показано. И даже до того у них дошло, что дважды по смуглой веселой морде получил от нее кудрявый Натан, и уже стали поговаривать о будущей свадьбе, как вдруг появился китаец Саша.
Ах, Натан, Натан, большая ждала тебя судьба, большая и роскошная — или вором в приморской банде, или прокурором в столичном городе, к этому все шло, а всего-то и надо было Бейле согласиться и стать с ним под хупу, и тогда он все для нее сделал бы и стал бы великим человеком, прокурором или еще кем — неважно, но жила бы она за ним как за каменной стеной и горя бы не знала, вечного еврейского горя.
Но не для того родятся еврейские девушки, чтобы идти путем простым и твердым, смутным и определенным, как патриархи велели когда-то. Нет, сердце у этих девушек пылает, горит оно жарким пламенем, как в русской песне поется. Только какая же песня сравнится с настоящим девичьим сердцем — там и огонь, и солнце, и небеса, и океанские глубины, а под ногами вечной пропастью зияет на самом донышке смерть, не такая далекая, и черная, страшная и манящая…
Нет, не нравился Бейле Натан, хоть косы ей режьте, и не нравились ей воры и прокуроры, и самому уполномоченному Алексееву, случись вдруг, не задумалась бы она дать от ворот поворот. Но если не евреи и не уполномоченные, так почему бы тогда не влюбиться в любого русского ваню, которых тоже полно было на селе — и молодых было, и старых, и среднего звена? А что русский, шептали родичи, так это не беда: попадется разумный человек, то и обрезать можно, а если неразумный, все равно спорить не нужно — как-никак господствующий класс, народ-победитель, случись чего (а в России всегда случается), станет русский зять всей семье защитой и опорой.
И, наконец, если уж совсем было бедной Бейле невмоготу от евреев и русских, на худой конец, и в лес можно было пойти, найти дикого лесного деда тысячи лет, родить от него дитятю с зеленой бородой, который, выросши, стал бы заменой старосте Андрону и выбился бы в большие начальники, как это среди них, лешаков, здесь принято.
Но ни первого, ни второго, ни третьего случая не узнала Бейла, не попробовала ни терпкой еврейской любви с вечной примесью горечи и меда, ни колотушек русских ласковых, ни даже деревянной пудовой мощи лесных жителей. Влюбилась Бейла в китайца Сашу, швырнуло ее горячее девичье сердце в смертельную пустыню, как некогда, ведомый Моисеем, бросило туда же весь ее народ.
Отчего бы, казалось, любить ей китайца Сашу, что в нем было такого, чего не было в других претендентах? А вот, видно, было в нем что-то, чего не было в остальных. Слаб был Саша, мягок, женоподобен, как и любой почти китаец, не росли у него ни борода, ни волосы на тонкой груди, ни скакать на лихом коне он не умел, ни прыгнуть в Амур за зубастой щукой, взять ее голыми руками, бросить в разведенный костер и сожрать затем полусырой, сверкая белозубой улыбкой.
Ничего в нем этого не было, а что же было в нем тогда? Деликатность была в нем, да такая, какой не найдешь и в самом запуганном еврее, загадочный взгляд черных, раскосых глаз, словно быстрым ножом намеченных среди желтого сияющего лица. Волосенки тоже черные, прямые, будто еще при выходе из утробы матери раз навсегда приглаженные, да так и оставшиеся до скончания века, не требующие ни гребня, ни плевка в ладонь молодецкого с последующим усмирением вихров, только раз в год лишь бы садовыми ножницами обошли вокруг черепа, обкорнали слегка — и потом еще год можно гулять без всякого ограничения, без любой ответственности, морочить голову беззащитным девушкам, чтобы сердца у них екали и сжимались при одном только взгляде. Руки были тонкие, нежные, с длинными ногтями, потому что отец у него был с деньгами, и сын знать не хотел полевой работы, и вообще никакой работы не знал, кроме как есть и веселиться в свое удовольствие. Весь он был нежный, маленький, так что будущая теща его, толстая Голда, могла взять китайца Сашу, посадить на ладонь и поднять к небесам, чтобы оттуда, с высоты, увидел он всю Амурскую землю и всю трудную жизнь евреев, как их угнетают хитрые китайцы и уводят от них лучших девушек.
Какие слова говорил он ей, какие песни пел — тихие, нежные, мелодичные китайские песни — теперь уж этого никто не узнает. А только полюбила Бейла Сашу, полюбила с такой силой, с какой способна полюбить совсем еще юная девушка, ни на что другое, кроме любви, не пригодная. Зачем же это случилось, спросите вы, и по какой, скажите, причине? Затем, что ветру, и орлу, и сердцу девы нет закона, как говорил в оны времена поэт Пушкин, которого евреи тоже хотели бы числить по своему ведомству за бакенбарды его пейсатые, острый ум и непокорную насмешливость, даже государю императору поперек. Ан нет, шалишь, руки коротки, и Пушкин — наш, чистокровный русский человек, которого мы никому не отдадим, а тем паче евреям и китайцам, которые, может, и не знают о нем ничего, но все равно выкуси…
Словом, возвращаясь на круги своя, скажем только, что это была первая еврейско-китайская свадьба в нашем селе. Сколько слез было пролито родственниками Бейлы — этого не берусь я вам передать бедным своим языком, но уж поверьте мне на слово — мокро было от слез этих по всей еврейской деревне, и затопили они все колодцы, и год еще вода из них пилась соленая и горькая.
Конечно, не так просто сдались евреи на милость китайского победителя, держались поначалу, как старинная крепость Моссад. Много было перепробовано разных хитрых способов, среди которых, например, предлагалось Саше перейти в невестину веру, в иудаизм, чтобы уж свадьба прошла как принято, со стоянием под хупой, рыбой-фиш и всеми положенными еврейскими причиндалами. Лелеяли надежду, что предприятие выгорит, зная, как легко относятся китайцы к переходу из одной веры в другую и даже совмещают в одном человеке несколько религий. Все уже было обговорено и даже моэля из города пригласили, но Саша от перехода в иудаизм неожиданно отказался, когда узнал, что для этого придется урезать причинный уд, и без того не особенно длинный.
Но, хотели того или нет, делу надо было куда-то двигаться, а иначе Бейла просто впала бы в грех беззаконного сожительства, да еще и с китайцем. А потому сам тихий Менахем сломил свою гордость и пришел для разговора в Сашин дом. Войдя, стащил с головы шляпу, огляделся с тоской и какой-то безумной надеждой, но ни менор, ни мезуз и ничего еврейского не увидел в фанзе, только лишь богомерзкое изображение Цзао-вана со склеенным сладостями ртом — чтобы не побежал на небеса ябедничать на хозяев.
Ох, не порадовало Менахема китайское жилье, да и сами посудите, кого оно могло порадовать? Несмотря на зажиточность хозяев, топилась фанза по-черному, и дым шел вовсю из решетчатых, оклеенных бумагой окон, хотя вроде и была тут труба, выведенная наружу. Но именно из нее дым почему-то ни в какую идти не желал, валил прямо из-под печной заслонки, распространялся по дому, погружал все в смутный мрак. Почему так происходило, Менахем не знал и знать не мог, а если кто и мог об этом знать, то уж никак не бедный еврей, разве что один только китайский бог.