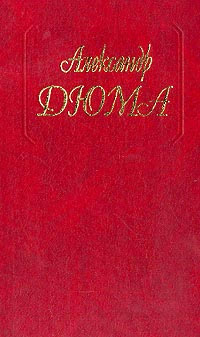Книга Каторжная воля - Михаил Щукин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Пристрелю, если на десять шагов вперед вырвешься.
– Не вырвусь, – обреченно сказал Федор, – мне нынче вырываться некуда…
1
Они выходили из темноты, когда им пожелается, в разное время, но всегда неожиданно и всегда заставали врасплох. Он вздрагивал и даже голову откидывал назад, ударяясь затылком в каменную стену. Пугался так, что холодела спина. Выходили они медленно, словно выплывали, и струился над ними, раздвигая темноту, трепетный свет. Впереди, осторожно ставя маленькие босые ноги, шел мальчик в белой окровавленной рубашке, за ним, выстроившись по возрасту и по росту, так же осторожно и чутко ступали трое ребятишек Агафона Кобылкина, и глаза у них, у всех троих, были залеплены нетающим, крупным, как сахар-песок, снегом. Последней возникала Ульяна, но она не двигалась, стояла чуть в отдалении и прижимала к груди недошитую когда-то рубашку.
Все они молчали, не обозначая себя ни единым звуком.
Дети приближались и замирали – совсем близко. Протяни руку – и дотронешься. Но ни разу не осмелился он этого сделать. А вздрагивающую руку поднимал лишь для того, чтобы перекреститься. Размыкал непослушные губы, шептал: «Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго!» За долгую свою жизнь осилил Агафон и запомнил только эту молитву, одну-единственную, повторял ее бессчетно, старательно вышептывая каждое слово, и почему-то боялся произносить в полный голос. Казалось ему: вот скажет он громко – и случится непоправимое, оборвется невидимая ниточка, и тогда исчезнут явившиеся к нему родные люди, исчезнет и мальчик в белой рубашке, который стал для него за долгие годы тоже родным.
Постояв, они уходили, так же медленно и плавно, как появлялись. Агафон, проводив их, подолгу вглядывался в непроницаемую темноту и продолжал молиться единственной своей молитвой. Просил у Бога лишь одного – прощения. И ждал, что оно явится для него, обозначится каким-то говорящим знаком, и тогда он уверится, что прощен. Но знак этот никак не обозначался, и Агафон понимал, что прощения ему нет, не вымолил он его за годы, проведенные в каменной пещере в одиночестве и в темноте.
Спустился он сюда по своей воле, после того как, отказавшись от старшинства в деревне, крикнул мужикам на сходе, что уходит в землю. Крикнул в запале, в горячей растерянности, не в силах справиться с горем после потери семьи, и не знал еще в тот момент, что сам же и уверится скоро – в пещеру надо уходить, вымаливать прощение, и, когда оно будет вымолено, тогда и душа успокоится и жить станет легче.
Через неделю после схода он взял краюху хлеба и спустился в пещеру. Почему он так сделал, никому в деревне объяснять не стал – зачем слова зря тратить, все равно не поймут. А в деревне дружно решили, что от душевных переживаний бывший староста, как и Кондрат Умник, тронулся умом. Время от времени к нему наведывались, чтобы проверить – живой ли? Заодно приносили хлеба и воды в деревянном ведерке. От иной пищи Агафон наотрез отказывался. Он привык жить в темноте и даже не заметил, когда ослеп; наверх, подышать свежим воздухом, поднимался очень редко и старался делать это лишь ночью, потому что дневной свет, когда он еще видел, больно резал ему глаза. Лишившись зрения, научился видеть Агафон по-иному, по-новому: не составляло для него особого труда представить деревню, округу, избы на улице и даже мог войти без приглашения, не постучавшись, в любую калитку и в любую дверь, войти и узнать – о чем говорят хозяева.
Всякий раз, когда его навещали гости, пытались они завязать разговор и сообщали новости, случившиеся в последнее время. Но слушал он эти новости всегда в половину уха – сам прекрасно знал, что происходит в деревне, хотя никому об этом не говорил. Узнал он, а точнее сказать – увидел, как смерть прибрала Кондрата Умника: кричал, бедняга, почуяв кончину, бесновался, будто его изнутри корежило, и затих в судорогах. Бабы обмыли покойного, нарядили его в смертное, а мужики положили в гроб и понесли этот гроб на кладбище, место для которого выбрали веселое и светлое – на ровной лужайке недалеко от подножья горы. Видел Агафон смерть и похороны Кондрата, но думал совсем об ином. Вспоминалась ему давняя поездка в горы, и вспоминалась так ясно, будто случилась она вчера и вчера еще пережили они с Кондратом тот леденящий страх, после которого немудрено было сойти с ума. А еще он слышал голос: «И ты свои грехи тоже сюда принес, не оставил их, не избавился, и все остальные принесли. Присыпали их, как золой, а внизу угли тлеют, дунул ветер, они и загорелись. Поэтому нет вам, грешным, доступа к моим богатствам!»
Не случайно вспомнился ему этот голос, зазвучавший после похорон Кондрата, была серьезная причина, чтобы он зазвучал, и Агафон это прекрасно понимал. Поэтому терпеливо дожидался гостя, который уже спешил к нему, срываясь временами на бег, и не боялся оскользнуться и упасть на камнях, мокрых после дождя.
Заскрежетал плоский валун, закрывавший вход в узкий лаз, послышались глухое сопенье и торопливые шаги. А вот и голос, принадлежавший старосте – Емельяну Колесину, который заменил в свое время Агафона и держал до сих пор деревню в крепком кулаке:
– Сидишь, старый хрен?! Сидишь и молчишь?! Сколько лет уже здесь сидишь и молчишь! Убить тебя мало!
Не отзывался Агафон на срывающийся крик, даже головой не пошевельнул, восседал неподвижно, привалившись к стене, и слушал. Емельян, распаляясь, продолжал кричать:
– Если бы я раньше узнал, мы бы теперь как сыр в масле катались! Почему молчал? Почему не говорил? Я теперь все знаю! У Кондрата был вечером, зашел глянуть, а он не бормочет и жрать не просит. В себя пришел перед смертью. И рассказал мне, как вы в горы ездили, где серебро дармовое под ногами валяется. Он тогда привез слиток, хоть и не в себе был, спрятал. Показал мне, где лежит, достал я, в руках держал. Слышишь? А ты молчал! На сундуке с богатством сидим – и не чуем своими задницами…
В деревню Емельян пришел не с первыми поселенцами, а намного позже, один, говорил, что беглый, а в глухомани оказался по простой причине – заблудился и потерял всяческое направление. Его приняли и скоро убедились, что мужик он бывалый, не робкого десятка, и мастеровой – избу себе поставил за одно лето. Помощи ни у кого не просил и топор у него в руках не утихал с раннего рассвета и до тех пор, пока не стемнеет. Вот и выкликнули его в старосты, когда Агафон отказался быть главным в деревне. Выкликнули – и не пожалели. Старостой он оказался дельным: нашел проход через перевал – и путь до ближних селений оказался намного короче и легче, гонцы теперь чаще возвращались с нужным грузом, и жизнь заметно стала лучше. Топоры, косы, утварь домашняя, и даже цветастые материи для баб имелись теперь в каждой избе. Платили за все, по причине отсутствия денег, соболиными шкурками. Емельян сам их собирал и хранил у себя в амбаре. И так получилось, очень быстро, само собой, что без его согласия ничего в деревне не делалось, как говорится, и чихнуть не могли.