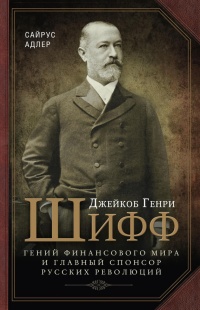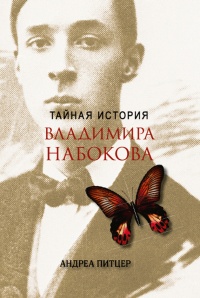Книга Вера (Миссис Владимир Набоков) - Стейси Шифф
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Довольно скоро Набоковы смогли оценить Америку: «культурная, бесконечно разнообразная страна» — так сразу охарактеризовал ее Набоков. Америке же потребовалось больше времени для признания своих гостей. Вскоре после их приезда нью-йоркский парикмахер, окинув взглядом клиента, признал в нем англичанина, недавнего приезжего и журналиста. Ошарашенный Набоков поинтересовался, с чего парикмахер так решил. «Потому что выговор у вас английский, что вы еще не успели сносить европейских ботинок и потому что у вас большой лоб и характерная для газетных работников голова». — «Вы просто Шерлок Холмс», — заключил Владимир. На что вооруженный ножницами детектив полюбопытствовал: «А кто такой Шерлок Холмс?»
Как-то раз во время их путешествия через всю страну, когда Вера повела Дмитрия в парикмахерскую, менее самоуверенный наблюдатель из краев западнее Миссисипи полюбопытствовал у семилетнего мальчика, где тот живет.
— Нигде не живу, — ответил Дмитрий, за последние три года раз двадцать сменивший место обитания.
— Но где же ты ночуешь? — спросил изумленный парикмахер.
— В маленьких домиках у дороги, — отвечал Дмитрий к вящему восхищению матери.
Оглядываясь назад, Дмитрий вспоминал: «Это была настоящая кочевая жизнь».
В Пало-Альто Набоковы поселились в комфортабельном, в испанском стиле, бунгало номер 230 по Секвойя-авеню, в двадцати минутах ходьбы быстрым шагом от самого центра весьма живописно расположенного кампуса. Вера проводила свое время с Дмитрием или в заботах по хозяйству. Она с огорчением восприняла то, что ей не разрешили посещать лекции мужа, имевшие огромный успех, правда, у скромной аудитории [94]. Набоков вел два курса, причем курс русской литературы оказался наиболее трудоемким; в то лето он только тем и занимался, что переписывал цитаты из Гоголя, Пушкина, Лермонтова. «Муж много работает и порядком устает, не столько от лекций (7 в неделю), сколько от подготовки к ним: не обнаружив приличных переводов русских классиков, он сам переводит их для своих студентов… И потому, конечно, преподавание русской литературы дается с таким трудом», — поясняла Вера [95]. Именно в то лето Вера сетовала на свое неважное знание английского. Их часто звали на всякого рода вечеринки, казавшиеся ей «слишком официальными (и чопорными)». Нередко они проводили вечера в обществе Генри Ланца — того самого финна, который предложил Алданову и Набокову место в Стэнфорде, — и Набоков играл с ним в шахматы. В течение лета Ланц с Набоковым умудрились сыграть 214 партий. «Он подсчитывал это с присущим ему педантизмом», — добавлял Набоков, с удовольствием подмечая при всем неприятии педантизма, что сам выиграл 205 раз[96]. Даже после 214 сыгранных с Ланцем партий Владимир так и не узнал, что тот лишился летнего жалованья ради того, чтобы устроить Набокова в Стэнфорд, как и не отдавал себе отчета, что читает лекции в пиджаке Гарри Левина. Никто так активно не вторгается в жизнь окружающих, как новый иммигрант. И на этой ранней стадии трудно было определить, кто у кого главный герой: то ли Америка у Набоковых, то ли Набоковы у Америки. Ни одна из сторон не имела и отдаленного представления о реальной жизни другой стороны. Достаточно легко вообразить, какой представала Вера в искаженном не без ее участия восприятии. Одна студентка с живостью вспоминала, как Вера подавала чай из сияющего серебром самовара, попутно излагая ритуал русского чаепития. Но, перечитав об этом после, засомневалась: «Хотя откуда бы взяться у Веры самовару, пусть даже самому маленькому?» Это явно был не тот предмет, который могли возить за собой трехкратные беженцы.
В июле до Набоковых дошел приятный, однако в материальном смысле не слишком отрадный слух, будто издатель «Нью Дайрекшнз» Джеймс Лафлин предложил за «Себастьяна Найта» 150 долларов. Аванс был ничтожный, но для рукописи, написанной три года назад и с тех пор множество раз отвергнутой на обоих континентах, это звучало обнадеживающе. Ломая привычную традицию, Вера организовала отправку трети полученного от Лафлина аванса Анне Фейгиной, остававшейся в неоккупированной части Франции. В последующие годы и при малейшей возможности Набоковы отсылали за границу деньги по многочисленным адресам. Мысль о все еще живущих в Европе старых друзьях и родственниках — сестрах Маринель, Георгии и Иосифе Гессенах, Анне Фейгиной, всех сестрах и братьях Веры с Владимиром — заставляла забывать о трудностях первых лет жизни в Америке; оба Набоковы в разной связи высказывали сожаление о том, что, хоть самим удалось бежать, пришлось оставить своих близких в беде и тем более в эти «тяжкие неандертальские времена». Чтобы свести концы с концами, Набоковы претерпели немало мытарств, прилагали уйму усилий (Владимир утверждал, что за лето 1941 года он так измучился, что буквально не было сил подняться со стула), но Вера, подводя итог, говорила: «Несмотря на все, мы были очень счастливы уже тем, что оказались способны существовать». Лафлин попросту воспользовался их трудным положением. К тому времени как был подписан контракт с «Нью Дайрекшнз», в нем оговаривался и контракт на следующие три книги Набокова.
Просматривать гранки «Себастьяна Найта» выпало Агнес Перкинс, возглавлявшей факультет английской литературной композиции; к ней Набоковы и отправились в середине сентября на поезде и прибыли в жестокие холода. В 1941 году английский у Владимира был не без причуд, тех самых, которые с равной легкостью можно назвать и грамматической погрешностью, и неожиданной оригинальностью. Все рассказы, опубликованные им в том году, были из уже написанных на русском, которые он — с посторонней помощью и без оной — воплотил в английском языке; здесь Набоков выступал не столько как автор, сколько как переводчик Сирина. С «Себастьяна Найта» началось высвобождение Набокова из сиринской куколки, хотя с этим соглашались не все критики, прочитавшие роман, вышедший в свет той зимой. Воскресный обозреватель «Нью-Йорк таймс» нашел произведение глупым, а английский язык автора — «подходящим для любителей Уолта Диснея». «Все это, должно быть, превосходно читается на другом языке» [97], — заметил он. Вероятно, Вера восприняла отзывы куда болезненней, чем сам автор, который равнодушием к критике не отличался, хотя упорно против этого возражал, утверждая, что критика его закаляет [98]. Набоков открыто признавался, что писать по-английски ему трудно. Через год после выхода в свет «Себастьяна» Набоков огорчался, что английский у него все еще не дотягивает до русского; даже когда это произошло, представления Набокова о правильном английском отличались от традиционных. Разве может человек, с рождения привыкший воспроизводить на кириллице «Сар d’Antibes»[99], удержаться, чтобы не поиграть словами; Набоков с удовлетворением отмечал, что следующая его книга, в высшей степени субъективная биография Гоголя, переливается, «будто каплями росы, множеством очаровательных маленьких ляпсусов». Но подобные ляпсусы не вызвали ожидаемого всеобщего восхищения. В 1945 году Кэтрин Уайт в «Нью-Йоркере» высказала озабоченность набоковским пристрастием к устаревшим словам и выдвинула предположение, что он черпает свой английский непосредственно из Оксфордского толкового словаря. Среди произведений, которые она в то время проработала, Уайт отозвалась о рассказе «Double Talk»[100] как о «весьма затянутом и весьма плохо написанном, хотя забавном и печальном произведении Набокова, который не позволяет мне ничего исправлять, разве что одно-два слова, в то время как все это надо переложить на английский язык, сократить и перевести из прошлого в настоящее». (Вера заявляла о своей большой симпатии к Уайт за то, что та умеет приспособиться к запросам Набокова.) Не без оснований Гаролд Росс клялся, что перережет себе горло, если Владимир Набоков когда-нибудь станет профессором английской литературы[101].