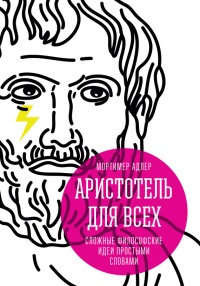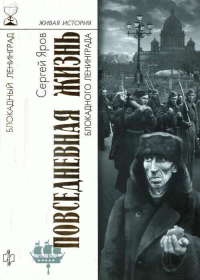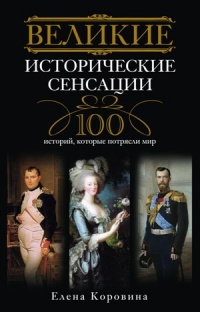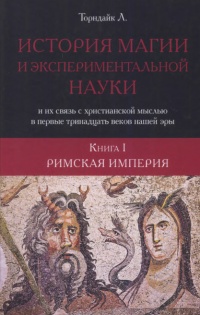Книга Грибоедов - Екатерина Цимбаева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вместо этого друзья отправились на Невский проспект («бульвар», как стали называть его побывавшие в Париже гвардейцы). Здесь Грибоедов совершенно примирился с Петербургом, а Бегичев перестал разыгрывать роль чичероне. Узкое и неинтересное начало Невского неожиданно вывело их к Казанскому собору, недавно освобожденному от лесов и ошеломлявшему колоннадой, словно составленной из грубоватых и живых стволов деревьев-великанов. А дальше перед глазами замелькали веселые мостики, великолепные Дворцы и публичные строения, чугунные решетки садов; вправо и влево бесконечным полукругом уходили набережные Фонтанки, плотно застроенные особняками размером поменьше, чем на Невском и, видимо, возведенными с единственным желанием ни в чем не уступить соседям и даже перещеголять их: так они были похожи друг на друга и в то же время норовили выделиться какими-нибудь небывалыми деталями отделки.
Невский поразил Грибоедова обилием экипажей и людей, как будто все население города сосредоточилось в этом единственном месте. Повсюду сверкали яркие краски военной формы и золото эполет; штатского платья почти не было видно. Казалось, город захвачен русскими войсками. В стороны же от Невского тянулись пустынные кварталы, как-то случайно расступавшиеся то перед заброшенным Михайловским замком Павла I, то перед разоренным Таврическим дворцом Потемкина, то перед необъятной пустошью Царицына луга. У Грибоедова голова шла кругом от обилия впечатлений, а ведь по слабости зрения он не видел еще вдали ни Смольного собора, ни Лавры в честь своего святого покровителя Александра Невского. Он был рад ранней темноте, давшей ему отдохнуть перед главным событием дня — поездкой в театр.
Александр с наслаждением погрузился в завлекающий мир театра; после двухлетнего перерыва он был бесконечно рад потолкаться в партере среди мужчин, стоящих, снующих или сидящих на кое-как расставленных стульях. К своему удивлению, он очутился среди знакомых, прежних соучеников по пансиону или университету, во главе со ставшим влиятельным театралом Степаном Жихаревым, кое-каких сослуживцев или соучеников Бегичева. Здесь, как и на улицах, военные мундиры решительно преобладали, и зала выглядела пестро, весело и нарядно. В креслах, где обыкновенно сидели люди знатные или богатые, Александр с неудовольствием обнаружил своего дядюшку и постарался не попадаться ему на глаза.
О том, что Алексей Федорович поселился в Петербурге, он знал по письмам матери и сестры. Настасья Федоровна с нескрываемым гневом рассказала сыну историю братниного разорения. Хмелиты уцелели от французов, но Алексей Федорович сам подорвал состояние бесконечными балами и празднествами, дававшимися ради любимой старшей дочери Елизаветы. Грибоедов-старший умудрился настолько исчерпать кредит, что целых семь заимодавцев подали на него в суд и принуждали к немедленной уплате. От них-то он и скрылся в Петербург, где вел рассеянную жизнь промотавшегося барина, надеясь отсидеться от грозы. Настасья Федоровна изливалась в жалобах: мало того, что муж ее умер некстати, заставив Марию весь послевоенный сезон проходить в неидушем ей траурном одеянии, мало того, что ее дела были расстроены, так еще и брат перестал помогать и сбежал в неведомые края. Александр не разделял матушкиного гнева, сочувствуя своей младшей кузине Софье, чье вступление в свет должно было произойти при неблагоприятных обстоятельствах. Но при всем том он не горел желанием ни жить с дядей, ни навещать его, выслушивая воспоминания о стародавних битвах. Конечно, встречи с дядей он не избежал, но обоим она не доставила удовольствия, и по молчаливому уговору они стали общаться возможно реже.
Прошло всего несколько дней, и Грибоедов разочаровался в петербургских театрах. Большой театр сгорел в одиннадцатом году и еще не был восстановлен, русская и французская труппа играли в Малом, но непревзойденный балетмейстер Дидло перед приходом Наполеона благоразумно уехал из России и пока не вернулся, хотя попечитель театра Алексей Львович Нарышкин звал его с самого декабря двенадцатого года. Балет без Дидло пришел в упадок, едва храня следы недавнего блеска. В немецкие театры благородные зрители ходили весьма редко, совсем уж от скуки; они предназначались для природных немцев, которых в столице жило до трети всего населения (весь Васильевский остров был заселен профессорами, врачами, торговцами, мастеровыми из немцев, и в других частях было множество немецких учителей, булочников, парикмахеров; для них даже газеты выходили на немецком языке).
Русский театр был богат актерами. На сцене последние годы доживал гениальный, но рано спившийся Яковлев. Рядом с ним в трагедии первой актрисой считалась по-прежнему Екатерина Семенова, которую Грибоедов видел раньше в Москве, а роли Яковлева постепенно забирал себе классически безупречный Брянский. В комедии начинал молодой красавец, актер на все роли вплоть до балета и пантомимы Сосницкий, а рядом с ним — юная воспитанница театрального училища Воробьева, Асенкова на роли субреток, Рамазанов — продувного слуги, Ежова — комических старух и другие таланты, маститые и молодые. Репертуар же был беден. Авторы прошедшего века, да и сам Озеров, после войны как-то вдруг показались безнадежно устаревшими, их продолжали ставить, но встречали без прежнего одушевления, а из новых никого не было видно. Даже князь Шаховской после двух патриотических водевилей, написанных в годы войны, замолчал и погрузился в дела театральной дирекции и воспитание юных дарований.
Оттого русские актеры играли в переводных пьесах. Трагедии Вольтера и Расина, жалкие переделки Шекспира, бесчисленные комедии Мольера не сходили со сцены. В сезоне 1814 года возобновили «Скапеновы обманы» Мольера и поставили шедевр Мариво «Игра любви и случая». Но и бесподобная легкость Сосницкого, его заразительная, чуть хитроватая улыбка, фатоватые манеры и невероятная способность к перевоплощению не спасали положения — всё же, по общему признанию, французскую комедию надо бы ставить по-французски, в переводах она теряет половину смысла и почти всю веселость. Однако ходить на представления одной только французской труппы теперь, после великой победы над Бонапартом, было как-то неловко: чему еще не научились мы у французов?! Спектакли русской труппы посещали исправно, но, по убогости текста, зрителей привлекали только исполнители. Завяжет ли Сосницкий по-новому галстук — на следующее утро половина молодежи щеголяет с подобным узлом. Бросит ли хорошенькая актриса взгляд кому-нибудь в зале — и завистники готовы строчить эпиграммы, а то и вызовы на дуэль. Актеры и зрители самозабвенно играли в театр, и авторы были тут на вторых, а то и третьих ролях.
Однако не актеры, а актрисы царили на сцене. Весь партер, многие кресла и часть лож были заняты военной молодежью, только что вернувшейся с самых кровавых за прошедшие века полей сражений. В головах боевых офицеров словно бы не прошел еще хмель от шампанского, выпитого в Париже. Да и нельзя было ему пройти — они видели слишком много разорванных ядрами тел, на их глазах умирали друзья, у всех погибли родственники. Горечь потерь понемногу стиралась, но не забывалось безумие сдавшегося Парижа. Шампанское служило не забвению ужасов, но сохранению того непередаваемо счастливого ощущения победы, которое было пока лучшим воспоминанием их жизни. Они искали новых побед, но мирных и непременно счастливых.
Напрасно барышни в ложах старались привлечь внимание молодых людей, напрасно тщательно одевались к балам. На танцах вокруг них толпились кавалеры, но не было женихов. Офицеры нисколько не желали запереться в однообразный мир семейной жизни и забот о поместье. (И Иван Петрович Белкин был глубоко не прав, когда заставил своего полковника Бурмина уже в середине 1815 года уехать в провинцию и пасть там к ногам Марьи Гавриловны. Всякое, конечно, случалось, но как редкость, обычно же мысль о женитьбе приходила героям двенадцатого года не раньше, чем году в двадцать втором. Впрочем, историю «Метели» поведала автору девица К. А. Т., и в тройном пересказе, быть может, спуталось время событий.) Актрисы и замужние дамы торжествовали над благородными девицами. Мужчины увлекались мгновенно, пылко кидались во всевозможные любовные авантюры, лишь бы вдали не маячил страшный призрак брака. Мимолетные романы не давали выхода их чувствам, они влюблялись всерьез, но любовь оставалась легкой и радостной и не нарушала праздничного настроения.