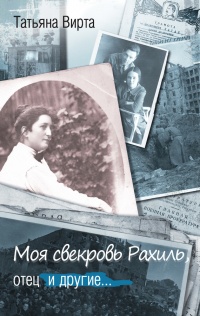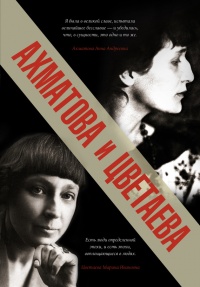Книга Как знаю, как помню, как умею. Воспоминания, письма, дневники - Татьяна Луговская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пока я раздумывала над этим вопросом, в один из углов с моей кисточки капнула и быстро растеклась огромная клякса. Работа была загублена! Я сокрушалась, а клякса между тем все растекалась и растекалась и из круглой стала продолговатенькой. Потом немного еще распушилась по краям и остановилась. И тут я увидела совершенно ясно, что это была не клякса, а птичка. Самая настоящая птичка в натуральную величину. Оставалось только (хорошо вытерев кисть) пририсовать головку, хвост и крылышки. Эта неожиданная удача так меня вдохновила, что этим же «кляксовым способом» я нарисовала еще трех птичек (в каждом углу по штучке). И правда, пожалуй, получилось недурно… Мама была довольна, занавеска повешена, жерло русской печки закрыто и мои четыре птички, рожденные из клякс, оживленно летали вокруг букета из васильков и ромашек, приводя меня в некоторое недоумение. Как могла клякса определиться в птичку? Ведь птица эта возникла помимо моей воли, из ничего, из кляксы — я только пририсовала крылышки, головку и хвост. Нет ли тут какого-то обмана?
Вечером папа долго и молча стоял перед новой занавеской. (Не рассердился ли он, что я без спроса взяла его чернила?) Но вместо замечания он спросил:
— Таня, почему ты сейчас совсем не рисуешь? Оттого, что у тебя нет хорошего альбома и красок, или тебе просто не хочется?
— Мне просто не хочется, папа.
— Ну что ж, придет время, и тебе, наверное, захочется, подождем, — сказал папа. И, подумав, добавил: — А птички у тебя получились очень красивые.
Чтобы проверить, действительно ли отцу понравилась моя занавеска, я пошла на хитрость. На следующий день, собрав в поле васильки и ромашки, я поставила их в банке на шесток печки и стала так же, как папа, молча и долго, и так же, как он, заложив руки за спину, разглядывать живые цветы и нарисованные. Но ничего не увидела, кроме того, что мои цветы совсем не были похожи на настоящие. Тогда я рискнула спросить сидевшего за столом отца:
— Папа, это плохо, что мои цветы и птицы совсем не похожи на настоящих и все лиловые, как чернила?
Папа встал, подошел к печке, опять долго молчал, а потом ответил:
— Это вещи не сравнимые, Таня. Живые цветы — это природа, а нарисованные — это искусство. Каждое хорошо по-своему, — и папа опять сел за письменный стол заниматься.
Вот так задал он мне задачу с этой природой и искусством! И опять я не знала, понравилась ему моя занавеска или нет. Все-таки, — думала я, — если он назвал занавеску не тряпкой, а искусством, то, наверное, понравилась.
Не помню, кто (вернее всего брат Володя) рассказал мне, что положенная плашмя восьмерка служит обозначением бесконечности. Бесконечность… Это слово, как на вожжах, потянуло за собой понимание, а вслед за пониманием пополз ужас. Он был совсем другой, чем ужас смерти, посетивший меня в раннем далеком детстве. То был ужас конца — это был ужас перед отсутствием конца. Тогда можно было сказать: это обыкновенно, все умирают, мы это знаем, мы видели конец жизни. Но как можно было увидеть или узнать конец — предел — бесконечности, когда его нет совсем? Куда ведет эта бесконечность? Даже бесконечная жизнь и счастье пугали меня. Я цепенела, окружающие меня предметы теряли цвет, еда теряла вкус, из жизни уходила радость, а голова моя становилась апатичной и чужой, словно случайно приставленной к моему телу.
Поверженная, сшибленная, лежащая плашмя восьмерка отравила кусок моего отрочества.
Я рисовала эту проклятую восьмерку где попало (на бумаге и на земле), долго обводила ее края, кружилась в ней, как белка в колесе, и, холодея, понимала, что она не имеет ни начала, ни конца, что она замкнута, что она бесконечна. Тот, кто рассказал мне про значение лежащей восьмерки, вероятно, недообъяснил многое и бросил меня на произвол судьбы в эту бесконечную замкнутость, не подозревая, какие муки мне уготовил.
Особенно страшил меня огромный простор ночного неба. Звезды на нем прикидывались восьмерками. От этого зрелища у меня начиналось кружение головы и души. Безвыходное одиночество сковывало меня… И опять я ни с кем не могла поделиться, опять замуровывался в душе и казался срамным ужас, охвативший меня. Опять я мучилась в одиночку.
Мне не удалось окончательно избавиться от этого страха, но не допускать свое сознание вплотную приближаться к слову «бесконечность» я научилась. Спасибо и на этом.
Потом, со временем, чувство ужаса перед вечностью заслонилось страхами повседневности, и вечное растворилось во временном.
Качели находились на самом краю оврага. На концы длинной широкой доски вставали два мальчика и раскачивали качели, между ними посередине доски сидела, держась руками за веревки, девочка (и часто визжала: так страшно было качаться над оврагом).
В свои десять лет я была довольно смелая девчонка (не понимала опасности) и любила качаться на краю доски на месте мальчиков. Залезть туда сама я не могла и приходилось просить кого-нибудь из старших подсаживать меня. Особенно хорошо было качаться спиной к оврагу: наподдашь, раскачаешь и доска взлетает до уровня перекладины. И ты летишь плашмя над оврагом, над кронами деревьев и где-то в глубине под тобой шарахается испуганная птица. Дух захватывает! Секунда… и ты уже стремительно возвращаешься к земле.
Это удовольствие было редкое, так как качели были всегда заняты, да и не очень-то мне удавалось занять место на их краю. Опять градом сыпались на меня слова: ты маленькая, упадешь, опасно, Ольга Михайловна (мама) будет сердиться, и так далее. Словом, старая история, вечное мое несчастье: ты маленькая. Я спешила быть старше и полноправнее, и все уладилось бы, как вдруг совершенно неожиданно это редкое и опасное качельное наслаждение ушло от меня. Я сама отказалась залезать на край доски и выступать в роли раскачивающих качели мальчиков. Теперь, оглядываясь назад, я поняла причину своего отказа…
В один темный, предвечерний день той осени все время хлопала входная дверь, и вместе с потоком сырого, промозглого воздуха входили в дом мальчики, неся на спине огромные мешки с выкопанной картошкой.
В кухне были открыты обе створки подпола. Бездонная, черная пасть его моментально поглощала высыпаемую из мешков гремящую, как камни, картошку. Только по этому звуку и можно было определить глубину подвала. Иногда под нашими ногами, где-то сбоку, совсем в стороне, раздавались глухие голоса колонистов, ровнявших картошку в подвале. Что-то угрожающее и таинственное было в этих подземных голосах и в этой черной яме, молниеносно пожиравшей такое огромное количество картошки…
Дежурные девочки готовили в русской печке ужин, в кухне было тесно, и они сердились, что целая орава наблюдающих и любопытных сгрудилась вокруг подпола и мешала им хозяйничать. (А мы все толкались, заглядывали вниз и не уходили.) Жарко топилась русская печка налево от нас, и из нее начинало уже уютно попахивать закипевшим пшенным кулешом, а из подпола тянуло холодом, сыростью и землей.
Я тоже стояла над ямой вместе с другими девочками. Я стояла на самом краю, пальцы моих ног уже были на весу. Вдруг кто-то неожиданно и крепко сжал мои плечи с двух сторон и качнул вперед, как бы желая столкнуть в картофельную пропасть. Толкнул и тут же поставил на место. Удержал так сильно и крепко, что даже если бы мои ноги соскользнули в яму, то все равно — даже на весу — он удержал бы меня.