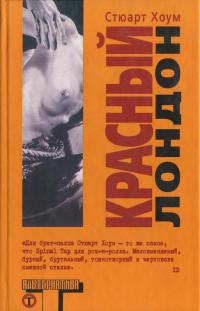Книга Легенды мрачной Москвы - Владимир Гиляровский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Около трактира толпы народа становились гуще, плотовщики перемешивались с золоторотцами. Корявый, с топорным лицом городовой разговаривал с барином в шляпе и, указывая на толпу, презрительно говорил:
– Нешто люди? Необразованность, деревня…
Никита шел и то и дело встречал знакомых, с каждым останавливался, говорил. При входе в трактир ему встретился едва державшийся на ногах канатчик Иван.
– Ваня, жив? – окликнул его Никита.
– Ванька нигде не пропадет! – ответил тот и со всего размаха распластался на мостовой.
В трактире с низкими закопченными сводами пахло прелым полушубком и сивухой. Все столы, стулья, скамьи были заняты всклоченными мужиками в рубахах, пол завален сумками, столы заставлены чайной посудой, бутылками; стоял такой гомон от сотен голосов, стуканья посуды и звона медяков, что отдельных голосов нельзя было разобрать. Направо от входа за столом толстый хозяин раскладывал бумажные рубли, покрытые медяками, на кучки и отодвигал каждую кучку к окружавшим стол плотовщикам.
Никита получил свою долю, и на столе появился чай» баранки и четверть вина…
Вечерело. Над рекой опустилась беловатая дымка тумана, заморосил мелкий, как из сита, скорее похожий на осенний, дождь. Половые в белых рубахах, бесцеремонно расталкивая охмелевшие, кудлатые головы, опущенные бессильно на стол посреди зала, становились между этими головами на колена, чиркали серные спички о широкие спины плотовщиков и зажигали лампы. Спичка, случайно, а может быть, из шалости брошенная половым, попала в рыжую курчавую голову, вспыхнуло несколько волосков, но обладатель головы провел по волосам заскорузлой рукой, потушил пожар и, как не его дело, продолжал спать.
Никита, согнувшийся, обрюзглый, с затуманенными глазами, колотил кулаком по столу и ораторствовал:
– И ругается… Пущай ругается… Бить нас мало… Бить мало.
– А ежели порядок такой? – возражает ему его толстый хозяин.
– Бить… За порядок и бить… Сорок годов хожу на плотах, ты еще мальчонком эконьким бегал, а теперь и пузо отрастил и…
– Благодать господня…
– Нет, ты ногу покажи…
Хозяин выставил чищеный сапог в высокой калоше.
– А это что? А? Оттого ты и пузо отрастил, от жадности… С того пятак, с того пятак – вот и пузо и нога… Нешто это нога хрестьянина… От жадности полтора сапога надето… – сказал Никита, указывая на сапоги с калошами.
– Кешка, брось! А ты выпей лучше… Хозяин налил стакан.
– Отравы-то?.. Вот кабы не эта отрава-то, так где бы ты полтора сапога взял? Сорок годов на плотах хожу, чугунки не было, по Можайке мы хаживали еще, ассигнациями получали и домой носили… А потому отравы не было и полтора сапога не видали…
Никита выпил залпом стакан и понюхал кусок кренделя.
– Бить нас надо за отраву-то… Вот бабы – во у кого учиться… Сердешная калачика не купит, все домой несет, а отчего? Потому отравы не знает… Верно я говорю? – говорил Никита коснеющим языком.
– Верно.
Хозяин встал и пошел к буфету.
Никита выбросил на стол четыре рублевые бумажки и немного меди и крикнул:
– Вишь денег колько? Еще полуштоф – живо!
На стул, с которого встал хозяин, сел золоторотец.
– Друг, верно я говорю – бить надо.
– Верно, – соглашается тот, косясь на деньги.
– А коли верно, значит, выпьем…
– Угостите, коли милость будет…
– И угощу… Ежели я недели мокнул, ежели я свое дело справил, значит… Покажи ногу!
Золоторотец конфузливо выдвинул из-под стола рваный, грязный лапоть.
– Где полтора сапога… А? – Никита потянулся к ноге золоторотца, стараясь схватить ее руками, и упал под стол. Золоторотец бросил свою рваную шапку на стол, прикрыл ею рублевки, огляделся, взял шапку вместе с деньгами и исчез в дверь…
Федот Ильич не был человеком с характером, как это казалось его окружающим, – он просто обладал упорством несокрушимым.
– Что заладил, тому и быть!
А заладил он после смерти своей жены, что духовного завещания никогда составлять не будет и что все его состояние должно перейти только законному наследнику.
– Воля моя непреклонна! – любил он повторять в беседах с друзьями.
С единственным сыном у него были не то лады, а не то нелады. Сын, многосемейный работник, ушел после женитьбы от отца и вел свое небольшое дело.
Между отцом и сыном стояли капиталы первого, но все-таки они взаимно любили друг друга. Как-то, последние дни, отец даже был у сына в гостях на даче и говорил:
– Вот рай истинный! – И ласкал внучат.
Одиноко жил он, видаясь изредка с двумя-тремя стариками, приятелями далекой юности, да окруженный разными бедными родственницами, а иногда проходимцами разных полетов, охотившимися за его капиталами, нажитыми упорным, честным трудом ремесленника и приумноженными старческой скупостью.
Но кремень был старик, деньги держал в бумагах, нисколько не интересовался последним падением курса, а видел только одну наличность: резал купоны и приобретал на них новые и новые бумаги, да еще радовался, что рента стала дешевле, а купоны все то же стоят. О будущем не думал, наличность ощущал, по привычке экономил до скаредности и не понимал, что у человека могут быть иные потребности.
– Квартирка тепленькая, одежа-обужа есть, на рюмочку хватает – чего еще?! Не биться, не колотиться и на поклон к людям не ходить!
Был у него в давние времена приятель – поп старый, его прихода, – да умер. Бессребреник поп!
А на его место поставили молодого, новой формации, обделистого, из ходовых, отца Евсея. Этот и попечительство, и церковные школы, обо всем старается и всеми способами. Так и мечется по приходу, особенно по богатеньким да по вдовам-старушкам.
Вечером ко вдове, утром ко владыке.
– Ваше преосвященство! Еще жертвовательницу боголюбивую нашел на благоустройство приюта вашего имени, дозвольте вам представить.
– Отрадно, отрадно. Что же, веди!
А от владыки ко вдове едет, и под широкополой шляпой волосы встают в ожидании, что на них скоро камилавка залиловеет…
Долго он и за Федотом Ильичом неотступно ухаживал. Чувствует старик это приставание, а возразить не в силах, будто загипнотизирован.
– Владыка вас, любезнейший Федот Ильич, самолично желает видеть, наслышан, что искра божья теплится у вас в груди, и заглушать ее не следует… Года-то ваши, года-то…
Потом вскидывал руки к небу и начинал описывать прелести рая.
– Сколь прекрасен рай-то, сколь он великолепен! Благорастворение воздухов, блаженство праведных, плоды…