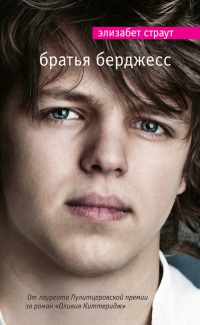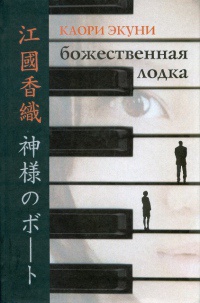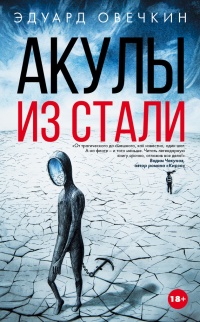Книга 22:04 - Бен Лернер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Думаю, я смогу пойти, – сказал я, выбрав путь наименьшего сопротивления.
Я дал ему свой адрес, и они заехали за мной примерно за час до заката. Дайен (он представил мне ее как Дай) я узнал сразу же: художница и галеристка лет пятидесяти пяти, выставки, которые она организовывала, мне случалось рецензировать; а вот имя мужчины я так и не мог вспомнить. Я надеялся, что Дайен употребит его в разговоре.
Музей Чинати Фаундейшн расположен на участке в несколько сот акров, который в прошлом занимал военный форт. Перед административным зданием нас встретили молодая женщина и еще более молодой мужчина: по случаю воскресенья музей был закрыт для публики. Дайен познакомила меня с женщиной – скульптором из Берлина по имени Моника, она приехала сюда на несколько месяцев по приглашению музея. Высокая, почти такого же плотного телосложения, как я, но более крепкая на вид, лет двадцати пяти. Светлые волосы, короткая стрижка, из-под воротника джинсовой куртки выглядывала татуировка: не то языки пламени, не то цветочные лепестки. Ее напарник, практикант в Чинати, выглядел лет на двадцать. Облегающие джинсы, черные волосы зафиксированы каким-то средством в нарочитом беспорядке; у него были ключи от депо, где размещены алюминиевые ящики Джадда.
Сильного отклика работы Джадда у меня раньше никогда не вызывали – правда, я ни в коей мере не специалист. Я ценю то, от чего он хотел избавиться: композиционные соотношения внутри картины, нюансы формы. Его интересовало блочное конструирование вещей, заводское их изготовление, он стремился преодолеть различие между искусством и жизнью, был стойко привержен к прозаическим, лишенным метафорического смысла объектам в реальном пространстве – мне, однако, казалось, что воплощение его идей я могу видеть, гуляя по залам большого торгового предприятия вроде Costco, Home Depot или IKEA; «специфические объекты» Джадда привлекали меня не больше, чем любые другие объекты, какие мне встречались, объекты, которые были всего лишь реальны. Те его вещи, что я видел – всякий раз либо в музее, либо в маленькой галерее, – оставляли меня равнодушным, и последователей, считающих его супермодным, у него всегда было так много, что я ни разу не усомнился в справедливости своего первоначального суждения.
Но здесь, в пустыне, лежащей на изрядной высоте, куда я, чужак, приехал на пять недель, все было иначе. В переоборудованном артиллерийском депо, где в прошлом содержались немецкие военнопленные, на кирпичной стене и сейчас можно было видеть надписи на немецком языке. Одна гласила: Den Kopf benutzen ist besser als ihn verlieren. Я попросил Монику перевести; «Лучше использовать голову, чем терять ее», – сказала она. Депо, когда Джадд их приобрел, были в руинах. Он заменил гаражные двери непрерывными рядами квадратных окон, разделенных на четыре части, и соорудил поверх старой плоской крыши сводчатую крышу из оцинкованного железа, удвоив высоту здания. Внутреннее пространство было так наполнено светом, листовой алюминий так зеркально все отражал, передавая и цвет травы, и цвет неба за окнами, что я не сразу увидел то, на что пришел посмотреть: три длинных ряда серебристых, отсвечивающих ящиков, расположенных через равные промежутки в строгом ритмическом соответствии с чередой окон. Хотя наружные размеры всех ящиков одинаковы (в дюймах – 41 × 51 × 72), внутри каждый из них уникален; некоторые разгорожены тем или иным образом, некоторые открыты сбоку или сверху, и тому подобное, поэтому, идя вдоль ящиков, ты то видишь темные объемы, то темную полосу между объемами, наполненными светом, то, если смотришь под определенным углом, не видишь никакого объема вовсе; один ящик – зеркало, другой – бездна; то перед тобой сплошная поверхность, то беспримесная глубина. Перечислить физические параметры экспозиции большого труда не составляло – практикант делал это слегка дидактическим тоном, его голос гулко разносился по помещению, – но эффект, производимый вещами, стирал услышанное. Скульптуры находятся в потоке времени, их вид быстро меняется при перемене освещения: сухая трава стала золотой, закатное небо вскоре приобрело оранжевый цвет, окрашивая алюминий. Все эти окна, за которыми – открытое пространство, все эти отражающие поверхности, все эти ящики, по-разному организованные внутри, в чьей глубине мне порой виделись смутные образы окружающего пейзажа, – всё вместе, соединившись, резко нарушило мое ощущение внутреннего и внешнего; в белых кубах нью-йоркских галерей вещи Джадда никогда не оказывали на меня такого действия. В какой-то момент я приметил на поверхности одного из ящиков движущееся пятно и, повернувшись к окнам, увидел двух вилорогих антилоп, несущихся по пустынной равнине.
Мне доводилось в прошлом читать или вполуха слушать похвальные отзывы об этих ящиках, но никто ни разу не упомянул про немецкие надписи, нанесенные на стену по трафарету, и никто не говорил и не писал, что на его восприятие работ Джадда повлияло их нахождение в переоборудованном артиллерийском депо. На меня, всплывшего на поверхность из моего молчания и из моего Уитмена, на привилегированного гостя в милитаризованном приграничном районе, эта инсталляция подействовала прежде всего как мемориал: ряды ящиков в бывшем военном здании, где в свое время содержались военнопленные из Африканского корпуса Роммеля, напоминали ряды гробов (мне пришли на ум наскоро оборудованные госпитали, которые посещал Уитмен); ритм, которому подчинено меняющееся от ящика к ящику их внутреннее строение, воспринимался как жест, указывающий на трагедию, в прямом смысле не вмещаемую ни в какие рамки, или на трагедию, которая сама, поскольку внутренние стенки иных из «гробов» отражали пейзаж за окнами депо, стала вмещать мир. И все же «мемориал» – не совсем верное слово: эти вещи, казалось, не были предназначены для того, чтобы сфокусировать мою память, не было ощущения, что они адресованы мне или какому-либо другому человеку. Скорее это походило на Стоунхендж, где я никогда не был, на встречу со строением, явно возведенным людьми, но не постижимым человеческим разумом; инсталляция словно бы ждала, чтобы ее посетил инопланетянин или бог. Работы были помещены в сиюминутное, физически ощутимое настоящее, они реагировали на все перемены освещения, на всякое присутствие, и они были помещены в широкую перспективу колоссальных бедствий современности (Den Kopf benutzen ist besser als ihn verlieren), но они также были настроены на нечеловеческую, геологическую длительность, ассоциировались с потоками лавы и ее застывшими пластами, наводили на мысль о расширении алюминия по мере потепления на планете. Между тем как ящики алели и темнели, вбирая в себя закатное небо, я испытывал чувство, будто все эти уровни бытия, все эти временны́е масштабы – биологический, исторический, геологический – соединяются и взаимодействуют между собой, а потом растворяются. Я подумал о немыслимом зеркале из стихотворения Бронка.
Покинув Чинати, мы отправились в «Кочинил» – в ресторан в центре Марфы, который Дайен предпочитала другим; Монику и практиканта она тоже пригласила, но они поехали на велосипедах. На машине мы опередили их всего на минуту или две. В музее я не говорил почти ничего, и, пытаясь вести нормальную беседу, пока мы ждали выпивку, я чувствовал себя характерным актером, старающимся вернуться в одну из своих прежних ролей. Но все это кануло в небытие после первого же глотка джина; я осознал, что здешние недели молчания и трезвости были у меня самым долгим периодом воздержания с подростковых лет. Второй мартини претворил всю мою накопившуюся суточную аритмию в маниакальную энергию. Без церемоний я разделался с гигантским бифштексом, который заказал, я не столько его съел, сколько вдохнул, включая большую часть хряща у косточки; я прикончил его, пока другие только приступали к своему белому окуню, и это позволило мне сосредоточиться на вине. Никто, я заметил, из здешнего персонала не говорил по-испански.