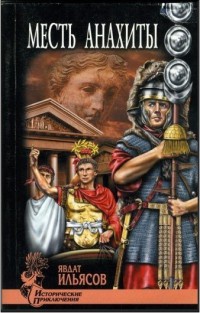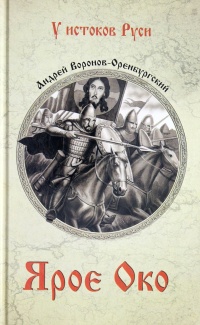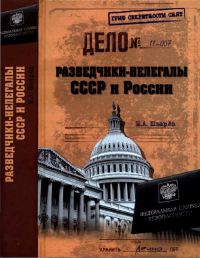Книга Золотой истукан - Явдат Ильясов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И купцы да послы, да их слуги — чужие, недоступные. Спросил Руслан у одного: «Куда нас везут?» Тот злобно скривился, плюнул, и весь ответ.
По длинным одеждам из однородной ткани, с карманами непременно ниже пояса, по кудлатым головам, всегда покрытым шапками, даже во сне (кое-кто из важных путников спал на крыше надстройки, на воздухе, поэтому Руслан, которому, как и другим пленным, отвели место ниже, на жестком настиле судна, видел это), но особенно — по вьющимся длинным прядям волос, свисающим с висков, Руслан определил: евреи, — встречал он таких в Самандаре.
Их главный, Пинхас, день-деньской сидел на ковре, накинув на плечи полосатое покрывало, читая толстую книгу. Вот здоровяк — и плечист, и грудаст, и брюхат, с неимоверно толстыми руками: даст один раз — не встанешь.
Но самым приметным предметом был у Пинхаса нос. Таких носов Руслану видеть в жизнь не доводилось, хотя и насмотрелся он на всякие носы от Днепра до Волги. Вот уж нос, так нос! Расскажешь кому про такой, — не поверит.
Не то, чтоб уж очень огромный, хоть и порядком большой, — тем он дивен, что несусветно крив: круто изогнут и упирается острым концом даже не в губы, а в подбородок, далеко выступающий вперед и кверху. Прямо-таки рог, торчащий вниз, брат ты мой, — а не нос. И где-то в глубокой западине между чудо-носом и подбородком — тонкие крепкие губы.
Как он ест с этаким носом? Наверно, отгибает рукой от подбородка, чтоб положить в рот кусок хлеба.
Брови лохматы, как усы, из ноздрей торчат пучки седых волос.
Видный человек.
И день-деньской суетится вокруг Пинхаса другой еврей — высоченный, тоже седой, худой, с маленькой головкой на узких плечах, с короткой спиной и широким, втрое шире плеч, тяжелым задом, с длиннющими прямыми ногами.
— Лейба! — то и дело подзывал его к себе Пинхас и долго и строго что-то внушал ему, положив ладонь на книгу.
В третий же день, к вечеру, ладья Пинхаса пристала к острову, заросшему ольхой, ракитой, камышом (Карась: «Зачем бы это; неужто коптить нас тут будут вместо рыбы?»); хазарская стража сошла на мокрый берег, настрелять диких уток, гусей. Эх, сбежать бы, залечь в непролазных кустах, — хазары век не найдут. Не найдут? Сыщут, как псы. А не сыщут — беглеца комары изведут, выпьют всю кровь. Здесь, на судне, и то до полусмерти заели.
Лейба тоже спустился на сушу. Перед тем. как снова тронуться в путь, взошел с охапкой зеленых ветвей, бросил ее изможденным пленным. Ничего не сказал, — бросил, отвернулся. Да и что тут говорить. Удивленные русичи, — с ними общался только главарь хазарской стражи, кидая раз в день каждому по рыбке сушеной, — мигом расхватали ветви и принялись охлестывать себя, как в бане, глуша зловредных насекомых.
— Лейба! — заорал Пинхас с возвышения.
Угодливо семеня, Лейба поднялся к нему. Пинхас, тыча пальцем в книгу и брызгая слюной, стал его с пылом отчитывать («Ам-хаарец, тьфу, ам-хаарец, трр, брр!!), затем, когда слуга открыл было рот, чтобы что-то сказать в свое оправдание, ударил его палкой.
Лейба скатился с надстройки, приник к боковой стенке судна. Смешно и жалко смотреть на него, долговязого, с короткой спиной и широким задом, расположенным чуть ли не сразу под плечами, с несуразно длинными ногами. И больно смотреть, как по тонкому, по-женски красивому лицу текут слезы.
Руслан — участливо:
— За что он тебя? — спросил по-хазарски.
— Вы язычники, и мне, еврею, грех общаться с вами, и тем паче — вам помогать.
— Ишь ты. Дал бы и ты ему хорошенько.
Лейба — в ужасе:
— Я — ему?! — И злобно: — И дал бы, — не смотри, что худой, крепко могу ударить. Я его ненавижу! Но он — мой господин. Знатный человек, богатый. А я — ам-хаарец, существо презренное, низкое. Сказал рабби Иоханан: ам-хаареца можно разодрать, как рыбу. И сказал рабби Элеазар: ам-хаареца дозволено убить даже в Судный день, выпавший на субботу. Я-то читать не умею, — Пинхас говорит, что так написано в книге Талмуд. Но я хорошо это запомнил, потому что слышу каждый день.
— Н-да… Запомнишь… Зачем же ты заповедь нарушил, — пожалел, что ли, нас?
Лейба взглянул на него подслеповатыми печальными глазами, развел руками:
— Не знаю…
Пинхас — свирепо: — Лейба!!!
Лейба нехотя поплелся к господину.
Что-то мелькнуло в разуме Руслана, какая-то важная мысль: «Живет ли где на земле народ, у которого бы…», — но додумать сейчас ее не удалось, — она тут же отхлынула, смытая открывшейся впереди огромной сверкающей синью. Море!
…Припав к боковой стенке судна, евреи, зеленые от тошноты, выворачивались наизнанку в прозрачную зелень вскипающих волн. Будто свининой запретной объелись. Рядом с ними рвало хазар и русичей. Евреи их не толкали, дружно теснились плечо к плечу. Вместе с язычниками есть и пить — грех, но, видать, не грех вместе блевать.
Море — оно, наверно, не подчиняется всяким вероучениям, ни тому, ни сему: вот оно и уровняло всех.
И на них всех удивленно смотрит Руслан. Ему больно за ясную зелень морской воды. И невдомек ему, отчего их тошнит.
Зверь не разводит грязь вокруг себя, живет чисто и умирает чисто: почует смерть — забьется куда-нибудь в глушь, в яму, в щель, и нету его. А человек… идешь по зеленой росистой дубраве, дымом пахнет, и на пути кучи золы, гнилого тряпья, костей, черепков от горшков, — близко жилье человечье. Всю округу загадит, пентюх проклятый, — и небесный чертог ему подавай…
Окрыленной душой взмывает Руслан вместе с ладьей на гребень крутой волны, и вместе с ладьей плавно несется вниз. И сердце бьется не торопясь, размеренно и впопад блаженной качке, и дышится ровно и глубоко. Как на качелях, бывало, в роще за весью родной.
Хорошо ему здесь, и все смутно знакомо, и радостно все взахлеб, будто когда-то плыл он тут, но давно об этом забыл. Будто вернулся сквозь годы к утраченному в малолетстве. Проснулось в нем что-то певучее, древнее.
Божий чертог, небесный чертог…
Разве земной чертог, человечий, с дивными лесами, с дикими степями, с грохочущим морем, хуже, чем божий, небесный?
Вырвались в кои-то веки на вольную волю, соприкоснулись с чистой великой стихией, и стало их рвать от крепкой соленой правды, сияющей в ней.
Море. Набежит на солнце облако — и становятся волны темно-серыми, с просинью, точно кони редкой мышастой масти с белыми гривами. Каждая жилка звенит от ветра. И сквозь спинной хребет будто струится холодный ветер. Море, ах ты, море. Спасибо, хоть ты меня утешило на бесконечном и трудном пути моем.
Пустынный берег.
«Будут во аде муки внутренние — и, с тем вместе, внешние: там душа будет страдать, изнывать в страшной печали, унынии и отчаянии, там будет невыносимо мучить совесть — будет сильно и ужасно, по слову писания, точить сердце червь неусыпающий, а тело — отвне — жечь огонь вечно пылающий. Адский огонь столь жесток и лют, что и разум представить не может…»