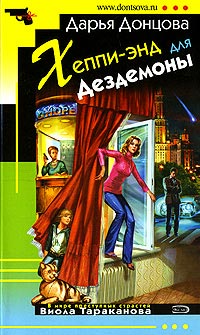Книга Империя Ч - Елена Крюкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ты не человек, а женщина. Гляди, как много женщин. И все они глядят во тьму и в бешенство неона жадными, голодными глазами. И все они хотят есть. И у всех у них дома сидят на лавках китайские голодные дети, мал мала меньше, и разевают голодные рты, как галчата, и у всех у них приползают с работы мужья домой затемно, ссутулясь, горбясь, буравя ненавидящим взором из-под пыльных бровей этот голодный мир; и мужики еще пуще, чем дети, есть хотят.
Врешь ты все сама себе, Лесико. Никаких мужей и детей у них нет. Это просто женщины. Сами по себе. И они хорошенькие. И они сами хотят есть. И хотят красиво одеваться. И хотят спать на душистых пуховых перинах. И обмахиваться веерами из павлиньих перьев. И носить страусиные шляпы. И манто из золотистых норок. И шиншилловые боа. И связки жемчужных ожерелий на шеях.
И, может быть, какая-то из женщин хочет, чтоб на ее исцелованной вдоль и поперек — негде пробы ставить — пышной груди красовался единственный в мире черный жемчуг, Великая Жемчужина Востока, и она и впрямь считает, что она сама, живая и веселая, стоит, ох, стоит этой Жемчужины.
Что же ты теряешься, Лесико?! Не пора ли и тебе тряхнуть стариной?!
Она представила себе впалые щеки Василия. Его запавшие от голода глаза. Его башмаки, износившиеся в край, натершие ему до крови пятки. Пыльные пятки рикши. Не за этим ли они приволоклись сюда из проклятой Ямато?!
Что ты будешь есть сегодня, милый мой. Что ты будешь сегодня пить. Чистая вода в Шан-Хае тоже дорого стоит. Ее продают в длинных бутылях, три юаня бутыль. А так — напьешься, и загнешься: живот вздует, в больницу отвезут, еще и не выкарабкаешься.
Она кокетливо поправила шляпку, отошла от ярко освещенной витрины. Мимо нее по дороге проплывали блестящие чистенькие, как младенцы в колыбели, богатые авто, бедняцкие машинешки-жучки, пропыленные донельзя повозки рикш, крестьянские телеги с остатками гнилых капустных листьев и ошурков лилового китайского лука — крестьяне возвращались с шан-хайских рынков к себе домой, в предместья; и водители шикарных авто смотрели на нее из-под отблескивающего лака надраенных стекол вместе заинтересованно и презрительно: какая славная мордашка, жалко, что замарашка. Ей почудилось, что тот, кто вел авто почти вровень с тротуаром, рядом с ней, нарошно тормозил ход машины, чтоб получше разглядеть ее стати.
В горле пересохло; она облизнулась и натужно, вымученно улыбнулась, и ей показалось — какая обворожительная улыбка у нее, прелестная, неотразимая.
— Господин? — сказала она одно из немногих слов, вызубренных ею по-китайски, и приподняла над глазами соломку шляпы. Господи, какое счастье, что она надела сегодня ленточку на шею, и исподнее у нее стиранное в золе, чистое.
Авто стало. Боковое стекло отъехало вниз. Зловещая узкоглазая рожа высунулась из-за стекла, обозрела ее всю подозрительно, и верещащий голос задал вопрос по-китайски:
— Не больна?
Она не поняла. Грациозно и жалко пожала плечами. Показала пальцами на уши, на губы: мол, не смыслю, иноземка. Мужчина понял так — глухая, косноязычная.
Все лучше — меньше болтать будет.
Он распахнул дверцу авто.
— Садись! Живо!
Бедно одета. Хорошо: он меньше заплатит.
Она подобрала рукой юбку, занесла ногу.
До нее дошло, что она делает.
Здесь, в машине! В зловонном нутре авто, чужой китайский мужик, наверно, коммерсант — таратайка лаковая, чисто вымытая, в салоне висят китайские драгоценные талисманчики, Будда из оникса, связки жемчугов — видно, поддельных… на счастье!.. Твоя нога, Лесико. Она уже переступила порог.
Дура, твоя нога переступила порог давным-давно. А помнишь, что тебе говорила зарезанная самураями Нора?! “С мужиками всегда надо держать кукиш в кармане!”
Кукиш будет сегодня у Василия на ужин, если ты не…
— Ну, что копошишься?! — Какое счастье, что она не знает, что означает по-русски угрожающее мяуканье. — Падай прямо на сиденье!
Рука протянулась и рванула ее внутрь. Она издала только короткий стон, тут же отрезанный от огненного, сумасшедшего ночного мира шоссе, витрин, перекрестков, щебета прохожих, кровавых реклам резким стуком плотно захлопнутой машинной дверцы.
Коммерсант более не произнес ни слова. Он молчал все время ее ужаса.
Когда все кончилось, он, во тьме провонявшего мужскими парфюмами авто, нашарил ее взмокшую ладонь и сунул в нее горсть юаней.
И так же молча выпихнул ее вон, на гомонящую, ярко освещенную раскосую улицу, которой дела не было до людского голода, слез и отчаянья.
— Где ты была?!
Она медленно снимала соломенную шляпку. На ее щеках и шее цвели синяки позорных укусов.
— Где ты была, говори! Где?!
Она молчала.
У ее ног притулилась брошенная сумка. Доносились манящие запахи позабытой снеди. Жареная курица… салаты… лососи… хлеб… да, да, это не сон, душистый любимый им хлеб, шань-га. Что-то там еще?!.. о, он с ума сойдет, если… она не расскажет…
— Можно я буду молчать?
Можно все. Можно было сделать и это — то, что она сделала. Она же сделала это во имя тебя, дурак. А ты еще пытаешь ее расспросами. Всякая речь сейчас — ложь. Правда — вот она: она стоит перед тобой, ее лицо искусано, у ее ног в поноске — свежая еда. И все. Больше нет в мире правды, кроме этой.
— Зачем люди продаются, Василий?!
Он подбежал к ней, подхватил ее на руки, и тут она закричала, страшно разевая рот, закричала натужливо, хрипло, со всхлипами, взвивая голос до истошного визга, до предела отчаянья, до пропасти тьмы:
— А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а!
Она кричала, вопила неостановимо. Билась головою о его грудь. Сползала на пол, и он не мог ее удержать, и подхватывал опять, и прижимал к себе.
— Ну что ты так… что ты!.. милая… я же с тобой… я же все понимаю… так надо… Перестань!.. ну перестань, прошу тебя… мне страшно… ты сорвешь голос… ты мне дороже жизни, дороже всего… Лесико!..
Она кричала безостановочно минуту, две. Потом утихла. Визг и вой оборвались разом. Наступила плохая, жестокая тишина. Пустая, как пустой бочонок из-под корейской морковки на рынке Су-Чжуй.
Он уложил ее на матрац, подложил ей под голову свернутый в трубку старый халат. Это была их подушка. Покопался в сумке. Извлек накрытое прозрачной пленкой блюдо с белыми мясными палочками, обильно политыми майонезом. Открыл. Втянул жадно ресторанный дух.
— Это крабы… крабьи ноги… как там, в Иокогаме, — с отвращеньем пробормотала она и закинула руки за голову. — Ешь. Моряк должен есть морскую пищу. Дары моря. Ешь сейчас же. Ешь ради меня.
Он отламывал хлеб, запихивал в рот пальцами, кулаком, жевал, давясь, судорожно глотая, брал крабов из миски руками, выдавливал из мешочков себе за щеки корейские пряности. Он спятил от еды. Он смеялся и плакал сразу. Он искоса смотрел на нее — как она лежит, как она закрыла глаза, как потянулась, как высоко поднялась ее грудь — она вздохнула.