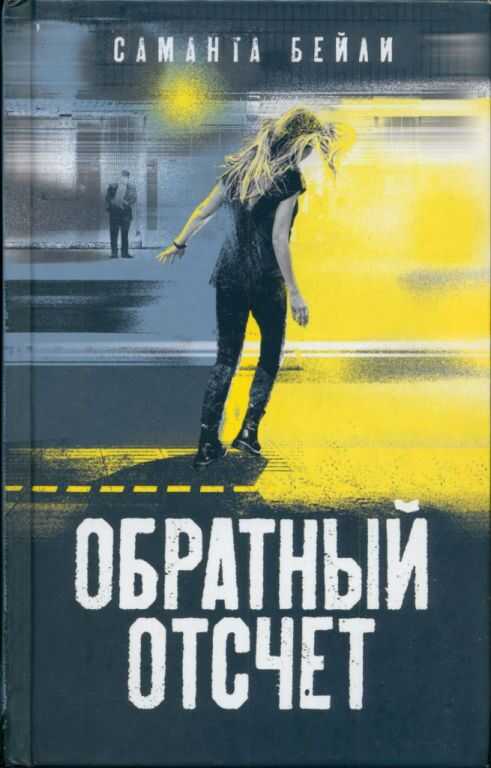Книга Детский поезд - Виола Ардоне
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Бедняга Гвидо! – вздыхает Маддалена. – Его же в конце концов даже из партии исключили… Печальная была история. Уехал в другой город, ушёл из политики, стал потом университетским профессором, но внутри словно надломился и уже никогда не был таким как прежде. А что до меня, то да, мы любили друг друга – не так, как ты думаешь, но всё-таки любили, по-человечески, даже когда связь между нами прервалась…
Она качает головой, и седая прядь падает ей на глаза.
– Хотя нет… сказать по правде, всё было вовсе не так замечательно. Для меня – да, поскольку когда тебе двадцать и ты влюблена в идею… Но я сталкивалась и с крайне неприятными вещами, а среди товарищей нередко встречались такие, кто был влюблён только в себя, а уж в идею потом, намного позже.
Маддалена кладёт руку на стол, стоящий между двумя креслами, касается моих пальцев. Её кисть испещрена мелкими бурыми пятнышками.
– Впрочем, всё это тебе знакомо. Ты ведь и сам был среди тех, кому помогали. Потом выучился, стал музыкантом – известным, с большими возможностями… Кроме того, ты – человек достойный и прекрасно понимающий, что всегда стоит попытаться ещё раз, даже если поначалу не попадаешь в ноты или сбиваешься с ритма. Всё, что можно сделать, должно быть сделано.
Я убираю руку и некоторое время сижу молча. «Известный музыкант», «достойный человек»: я почему-то не уверен, что она говорит обо мне. Наконец выдавливаю:
– Понимаю, что ты хочешь сказать… И поверь, я польщён, но… У меня своя жизнь, мне уже за пятьдесят. Ты решила не заводить детей и всю жизнь заботиться о чужих, я – посвятить себя музыке. Каждый выбирает для себя. И потом, у мальчика есть отец – это мне своего самому искать пришлось.
На лице Маддалены я вижу странное выражение, которого не могу отыскать в воспоминаниях.
– А бывает так, что выбора нет: ты выбираешь то, что должен, или то, что тебя заставят выбрать…
– И это ты мне говоришь? Ребёнку, которого семи лет от роду посадили в поезд? Да я и сам это прекрасно знаю! Какой у меня был выбор? На одной стороне мама, на другой – всё, чего я так страстно желал: семья, дом, собственная комната, горячий ужин, скрипка… И ещё человек, пожелавший дать мне свою фамилию. Мне помогали, что есть то есть, но как же стыдно было! У помощи, или, как ты говоришь, «солидарности» горький привкус, причём для обеих сторон – и для того, кто даёт, и для того, кто принимает. Вот почему это так сложно. Я просто хотел быть таким как все. Хотел, чтобы они забыли, откуда я приехал и, главное, почему. Да, я многое получил, но с лихвой расплатился за это, расплатился потерями! Подумай только, я ведь даже свою историю так никогда никому и не рассказывал!
– Как и я – свою, уж поверь, – Маддалена глядит на меня в упор, и на миг, не знаю почему, в голове вдруг всплывают Хабалдины слова о Терезинелле, которая стояла на баррикаде с пистолетом в руке и вздрагивала всем телом после каждого выстрела. – В семнадцать я забеременела от такого же юнца. О семье он, понятное дело, и думать не хотел. До родов пришлось уехать к тётке в деревню – мой отец боялся, что, если эта история всплывёт, его исключат из партии. Какой выбор у меня оставался? А однажды утром я проснулась с грудью, полной молока, но моей дочурки больше не было…
Тело Терезинеллы, которая больше не стреляет и не вздрагивает, глаза Маддалены, которые ищут, но не могут найти дочь… Слова долетают до меня очень медленно, будто им приходится снова проделать долгий путь от того утра, когда она проснулась с набухшей грудью, до нынешнего момента, растянувшись на все прошедшие годы.
Потом Маддалена улыбается, словно по старой, неискоренимой привычке, и я опять её узнаю.
– Это тоже солидарность. То, чего я не смогла сделать для неё, я делала для других.
45
Она провожает меня до двери. Мальчик, спрятав руки за спину, идёт за нами. Я стараюсь не встречаться с ним взглядом. Потом Маддалена вдруг хлопает себя по лбу, закатывает глаза и, заявив, что чуть не забыла одну очень важную вещь, на пару минут оставляет нас в прихожей наедине. Но я устал, мне хочется обратно в отель, а из головы не идёт украденная у матери дочь.
Мальчик тем временем вынимает руки из-за спины и показывает мне два рисунка. Первый – это портрет Маддалены в молодости, на другом – розовый овал с двумя синими кружочками посередине, рыжеватыми волосами и розовой закорючкой, которая, по идее, должна быть ртом.
– Это ты, – говорит он, протягивая мне рисунок. – Тебя я тоже сделал моложе… ничего?
Я несколько раз подношу листок к глазам, потом отставляю подальше, делая вид, что скрупулёзно разглядываю детали:
– Просто чудесно… но почему у меня на плече попугай?
– Какой ещё попугай? Это же скрипка! Бабушка говорила, она у тебя с самого детства.
Перед глазами мгновенно встаёт картинка: я заглядываю под кровать и обнаруживаю, что там пусто. Мальчик косится на меня – наверное, хочет, чтобы я рассказал ему эту историю: дети вообще любят истории. Но я понимаю, что не смогу, поэтому просто складываю листок и, сказав спасибо, сую в карман. Похоже, он разочарован, будто вручил мне бог весть какой подарок и ничего не получил взамен.
– Я о тебе столько всего знаю! – в его глазах мелькает хитринка. – Мне бабушка рассказывала.
– Бабушка рассказывала тебе обо мне?
– Ага. И вырезки из газет собирала.
– Да ладно, не может быть! Она ведь даже ни разу не слышала, как я играю!
– Мы по телевизору видели, много раз! Она вообще только ради тебя телевизор и купила, – и снова косится: проверяет, какое впечатление произвели его слова. – Так значит, ты знаменитый?
– А тебе хочется, чтобы я был знаменитым?
Он кривит губы, пожимает плечами, но я не могу понять, ответ ли это.
– Может, тогда ты и меня научишь?
– Чему тебя научить?
– Быть знаменитым!
– Ну ладно, как-нибудь… Если время будет…
– И я попаду в телевизор, как ты!
– Маддалена, мне правда пора…
– Вот она! – Маддалена, вернувшись, кладёт на журнальный столик фотографию. – Я же говорила!..
На пожелтевшей карточке, снятой у приюта для бедных, я вижу её саму, других девушек, того светловолосого коммуниста и даже товарища Маурицио, который стал потом мэром. А вокруг – множество детей, кто с мамами, кто без. За прошедшее время лица эти, должно быть,