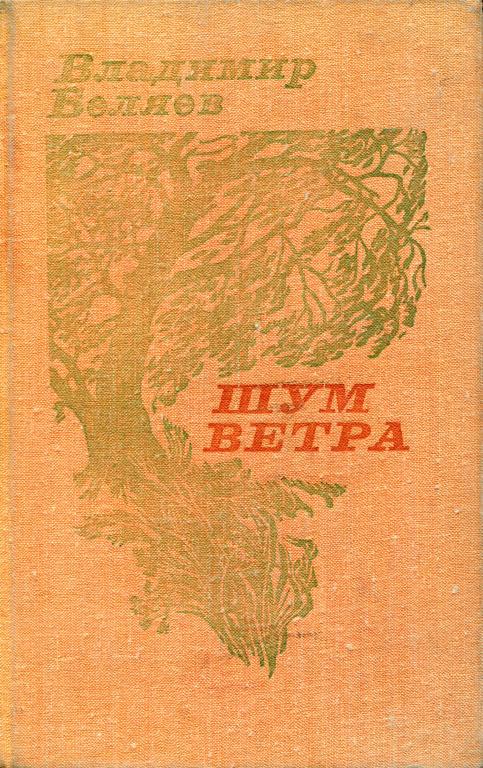Книга Орнамент - Винцент Шикула
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Прямо из исповедальни я выбежал на улицу. Радовался шапке и отпущению грехов.
Прочитать «Отче наш» и три раза «Богородицу», которые пан священник определил мне в качестве наказания, я забыл.
Однако сегодня (третьего, или, поскольку уже, наверно, за полночь, даже четвертого марта 1971 года) у меня вдруг возникло ощущение, что я, желая выглядеть интересным и особенным, пытаюсь проникнуть в себя и найти там нечто, чего нет в других, а не находя ничего такого, всегда готов помочь себе выдумками и обманом. Уже несколько раз я заставал себя за чем-то подобным, какой-нибудь смешной мелочью хотел привлечь к себе внимание. Вот и сейчас никак не могу избавиться от мысли, что в ком-то, хоть и таким жалким способом, признаваясь в своих ошибках, я вызову к себе симпатию. Такого рода искренность — это, по сути, двойной обман. Да и кого я хочу обмануть? Я же сказал, что буду говорить только за себя, что только ради себя хочу собрать все заново, но уже вначале в голове у меня промелькнуло, что кто-то будет это читать, и я стал будущего читателя принимать в расчет, то там, то здесь обращаться к нему напрямую и заискивать перед ним. Что-то мне говорит: Не пиши, Матей Гоз! Перестань с самим собой ссориться! Потерянное время уже не соберешь.
Я постоянно нахожусь как будто в середине — это можно назвать и непрерывным началом. Если бы мне действительно пришлось собрать воедино все, что у меня за плечами, то надо было бы родиться заново. О самом разном я уже повспоминал и еще повспоминаю, я сегодняшний и вчерашний, но больше всего полагаюсь на будущее. Не имей я веры в будущее, меня бы все страшно злило. И так я все время ворчу, даже просыпаюсь порой злым, но одно дело, когда сердится человек глупый, и другое — тот, кто знает, чего хочет. Повторю еще раз: я нахожусь в середине и хочу поумнеть, поскольку уже достаточно стар и каким-то там маленьким счастьем не соблазнюсь. Маленькое счастье — оно для маленьких глаз и уст, всего на один день или на неделю. Но мне-то захотелось посмотреть широко, говорить о том, что вижу и слышу, о чем я имел возможность поразмышлять, руководствоваться своим умом и своим умом жить. Только круглый дурак может позволить кому-то лишить себя этого права. Только умный может быть сильным. Ему можно заткнуть рот, но обмануть его нельзя.
Поздно начал я размышлять о таких вещах. А между тем на меня навалилось настоящее, и оно меня застало неподготовленным. Молодой Гоз умел только смеяться, а это умеют все дураки.
Я хотел говорить о Пасхе 1953 года.
20
Когда-то и мой отец, может быть, даже более основательно, чем остальные, готовился к пасхальным праздникам, просто не мог их дождаться; каждый день доставал из шкафа форму пожарного, снова и снова чистил ее щеткой, а иногда надевал и подолгу вертелся перед зеркалом. В Белую субботу уже с утра он натирал до блеска эуфониум и к Светлому Воскресенью уже был первым в полной готовности, выходил на улицу в форме и с музыкальным инструментом, поскольку ни от того, ни от другого он бы ни за что не отказался; как мы знаем, он командовал пожарными и в духовом оркестре тоже занимал важное место; важность и серьезность были видны в каждом его шаге, так что даже приезжий, случайно оказавшийся в наших краях, мог бы сразу заметить, насколько нужным человеком в деревне был мой отец. Во время шествия он поглядывал то туда, то сюда, отдавая распоряжения, за неимением другой возможности, хотя бы взглядом. Почти невозможно поверить в то, что, в конце концов, он все-таки преодолел себя и смог отказаться от такого положения; крестные ходы и процессии, во время которых так мощно и вдохновенно проявлялся его организаторский талант, вдруг будто потеряли для него весь смысл, он заменил их новыми, совершенно иными идеями и деятельностью, словно поставив с ног на голову свои прежние представления и действия. Перемена была столь внезапной, что меня поневоле берет сомнение: может быть, она еще раньше в нем готовилась и зрела, хотя никто этого не замечал, или, возможно, мой отец был человеком настолько поверхностным, что никогда ни о чем особенно не задумывался, его увлекала и удовлетворяла любая деятельность, в которой он мог себя проявить, главным для него был внешний эффект и сам процесс, и все это происходило в нем без внутреннего напряжения и противоречий. Когда я был моложе, мое уважение к отцу было искренним, вероятно, тогда я действительно видел в нем образец для подражания, но с годами во мне накопилась известная доля критицизма, причем важную роль здесь сыграло то, что бывшие друзья отца стали от него уходить, один за другим, а я часто спрашивал себя, где причина этого, и невольно думалось, что, наверное, они в чем-то правы, я посмотрел на своего отца более строгим взглядом, пока, наконец, не стало казаться, что и мне есть в чем его упрекнуть. Я сам испугался этой мысли и от опасения, что гнетущая атмосфера, которая охватила все, связанное для меня с родным домом, и достигшая апогея в весенние месяцы 1953 года, когда отца сняли с должности председателя ЕСК[16]побудит меня сказать, что я обо всем этом думаю, из-за этого опасения я предпочитал домой не ездить. Но праздники, рождественские и пасхальные, были исключением. Если бы я не приехал навестить родителей даже в праздники, стало бы ясно, что дело не в каком-то обычном легкомыслии, которое могло быть вызвано проблемами с учебой или чем-то подобным, нет, для отца и мамы, которые в это время были ко всему очень чувствительны, это наверняка означало бы то, что родной дом стал мне настолько неприятен, что даже встреч с родителями я избегаю, стараюсь о них забыть. А это было бы для меня еще страшнее. И я спустя долгое время вновь расцеловался с мамой и отцом, выслушал новости и сплетни, а потом махнул на них рукой. — Ничего не случилось. Вам не о чем жалеть.
Но отец не хотел на этом успокаиваться, и мне пришлось выслушать, почему против него выступает все районное и краевое начальство. — Корни всего здесь, в деревне. Думаешь, я не знаю, кто туда ездит воду мутить?
— Папа, вы меня удивляете, зачем так переживать? Вы же умный человек, другую работу себе найдете.
— Конечно, найду, Матько,