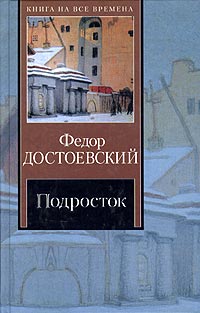Книга Избранное - Иоганнес Бобровский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Опять он надрызгался, этот Виллюн.
Хабеданк берет скрипку и перекладывает себе за спину, на верхнюю ступеньку.
Виллюн, надо вам заметить, был когда-то малькенским учителем. И мог бы и сейчас им быть, потому что где уж учителю так выпивать — с каких это достатков? Но Виллюн женился на богатой, вот у него и было на что — десять лет подряд, и только потом его погнали в шею, деньги кончились, и он всем осточертел. В такой-то крайности и приютился он у одного выделенного старика на выселках, такого же бобыля, как он сам, и теперь они зашибали вместе, неизвестно на какие шиши.
Виллюн тоже пробавляется музыкой, но такие случаи выпадают редко, да его ненадолго и хватает, сразу же наклюкается, какой с него толк! Однако, как бы мы ни дивились, почему да отчего, а только Виллюн уже и сегодня нагрузился в полную свою мерку, он стоит перед Хабеданком, еле держась на ногах, и говорит громче, чем следует:
— Кристинин-то, гляди, сюда пожаловал. Вчера вечером изволили прибыть.
— Знаю, — говорит Хабеданк, — вон он пошел.
Мой дедушка. В церковь. С Кристиной и Густавом, с женой Густава и стариком Фагином, но только жена Густава вдруг повернулась — и назад во весь дух, и лишь перед самым домом хватилась, что ей не пристала такая спешка, тут она сбавила шаг и не торопясь вошла в дверь. А потом и вовсе степенно вышла из дому — глядь, те стоят и ждут, и тогда она так же размеренно подошла к ожидающим, и вся группа, не проронив ни слова, двинулась дальше.
— Ишь важничает! — заметил Виллюн. — Несет себя, словно сальную свечку.
— Вздор, — говорит Хабеданк. — Где это видано, чтобы свеча была черная. А куда ты девал свой инструмент?
Хабеданк называет это инструментом, а Виллюн зовет растягушей, на самом же деле это гармонь, но какая-то допотопная. Бесчисленные заплаты, прошитые дратвой, не дают ей окончательно развалиться, но и на них плоха надежда, они то и дело сдают, и тогда гармонь испускает негромкие, но весьма неожиданные посторонние звуки, редко соответствующие исполняемой мелодии.
— Занес к Густаву, — отвечает Виллюн и присаживается на ступеньку.
А мой дедушка насторожился:
— Никак это Хабеданк там рассиживается, что этому цыгану здесь нужно?
— Он нынче вечером подрядился у меня играть, — поясняет Густав. — А почему ты спрашиваешь?
— Да нет, мне-то что, пусть себе играет, — говорит дедушка, но это ему не нравится. Хабеданк — Мари — Левин, — вот в каком направлении бегут его мысли, нет, это ему определенно не нравится.
И вот они уже у церкви, подходят и остальные, Виллюцкие и Вицкие, учителева жена, Енджейчики, Пальмы, всех не перечесть, а теперь — поздороваться и немного поблагобеседовать, тихо-мирно, не показывая досады, — и в церковь, пока не отзвонили.
— Вошли, — говорит Хабеданк.
И чего это старому хрычу понадобилось в Малькене? У Хабеданка свои сомнения. Уж не знает ли чего Виллюн? Ну да что он может знать!
Однако Виллюн что-то знает.
— Вчера он заходил к Глинскому, — рассказывает Виллюн. — Еще вчера вечером, баптист — к Глинскому! Ну и переполох же поднимется в Неймюле!
— Уже поднялся, — говорит Хабеданк. — Уже поднялся. Феллер как оглашенный бегает по деревне.
Но что же все-таки известно Виллюну?
Старик еще вчера заходил к Глинскому, а сегодня, вишь, и в церковь к нему потащился, он этого Глинского из рук не выпускает, что-то за этим кроется.
Но стоит ли выспрашивать Виллюна? Как бы он не пошел трубить — мол, Хабеданк то, да Хабеданк се. А если он что знает, то, уж верно, не удержит про себя.
Наводящий вопрос:
— Как думаешь, Виллюн, не затеял ли он чего по лошадиной части?
— Какие там лошади, у тебя только лошади на уме, — сердится Виллюн. — Он Густаву брат родной. Вот и напросился в крестные.
Похоже, Виллюн ничего не знает. Хабеданк берет свой футляр под мышку, подтягивается на перилах и уходит.
— Погоди! — кричит Виллюн ему вдогонку. — Куда тебя несет?
Но Хабеданку не до него.
— Нынче вечером у Густава, ровно в пять.
Пробежав за ним несколько шагов, Виллюн останавливается, за Хабеданком не угонишься, бежит как чумовой, Ну и ступай себе, цыган, опять тебя понесло какой-нибудь кляче клистир ставить своей скрипкой!
Остановись, Виллюн, не твое это дело. Пусть Хабеданк бежит, тебе ведь все трын-трава, а если нет, то разве что до ближайшей бутылки. Тебе, Виллюн, век не разобраться в той бестолочи, что зовется жизнью, или благочестием, или правом, — ты с этим покончил уже семь лет назад, когда избавился от школы; не ввязывайся же опять в эти дела, ты пребываешь в состоянии невинности, быть может, единственный во всем Малькене, а пожалуй что и до самого Бризена; ты не спрашиваешь, откуда она возьмется, водка-то, верно, откуда-нибудь да возьмется, посмотри на полевые лилии и на птиц небесных; ступай же, Виллюн, нечего тебе здесь околачиваться, вечером снова увидимся у Густава. Ну вот, а теперь улица, значит, опустела.
И только аисты по-прежнему кружат над церковью. С ними случилось то же, что и с Виллюном. Вчера пономарь Гонзеровский, этот трухлявый старичок, вооружась длинным шестом, сбросил их гнездо с церковной крыши. А такое тоже к добру не приведет.
Аисты, как вам может подтвердить Хабеданк, родом из Осечны, что так и означает «аистиное гнездо», это в Познани, откуда они и прилетают. Для них, как известно, кладут на крышу колесо, чтобы чувствовали себя как дома, и никуда не улетали, и на следующий год возвращались на то же место. С каких это пор аистам запрещено селиться на церковной крыше? Новые новости!
А между тем в церкви, под опустевшей крышей, над которой по-прежнему кружат два аиста, добрались и до проповеди. Глинский по ступенькам поднимается на амвон, сперва дружески кивает моему дедушке, а уже потом оглядывает свою паству. Ну и пусть себе болтает, пусть даже криком кричит, лишь бы не забыл возвестить, что сегодня седьмое чадо Густава приемлет святое крещение. Когда же служба кончилась, все двинулись домой, но только Густав с женою идут теперь первыми, мой дедушка с Кристиной и со стариком Фагином, что из Малой Брудзавы, следуют за ними, и сейчас они идут побыстрее, чем давеча. А потом снова в церковь, но уже с младенцем, дальнейшее нам знакомо. Иоанн Креститель в своем деревянном Иордане, с деревянными ногами и в деревянной верблюжьей шкуре, впрочем самого натурального цвета. Наверху крестит