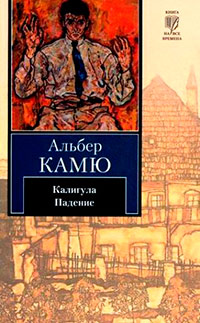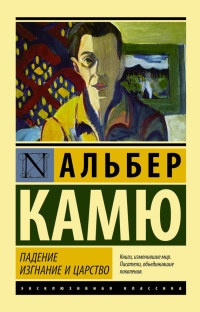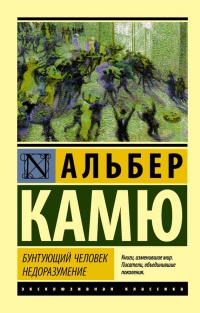Книга Первый человек - Альбер Камю
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В два часа невидимый военный оркестр, расположившийся на верхней галерее, начинал играть «Марсельезу», гости вставали, и на эстраду поднимались учителя в четырехугольных шапочках и длинных мантиях, различавшихся по цвету в зависимости от преподаваемой науки, а во главе процессии шествовал директор и какое-нибудь официальное лицо (как правило, высокопоставленный чиновник губернаторской службы), которому выпала очередь отдуваться в этом году. Пока они рассаживались, военный марш заглушал стук передвигаемых стульев, затем официальный представитель брал слово и излагал свои воззрения на Францию вообще и на образование в частности. Катрин Кормери внимательно слушала, ничего не слыша, но никогда не выражала нетерпения или скуки. Бабушка слышала все, но мало что понимала. «Он хорошо говорит», – сообщала она дочери, и та убежденно кивала. Это придавало бабушке смелости, и она решалась взглянуть на своего соседа или соседку с другой стороны и улыбнуться им, подкрепляя кивком головы только что высказанное ею соображение. В первый год Жак заметил, что она одна пришла в черном платке, каких давным-давно никто не носил, кроме старых испанок, и ему стало неловко за нее. Если говорить честно, то от этого стыда он так никогда и не избавился. Он просто понял, что тут ничего не поделаешь, и смирился, после того как попытался однажды завести с бабушкой разговор о шляпе и услышал в ответ, что она не желает бросать деньги на ветер и к тому же не любит, чтобы ей дуло в уши. Но, когда во время вручения наград бабушка заговаривала с соседями, он чувствовал, что позорно краснеет. После выступления чиновника вставал самый молодой из преподавателей, как правило, недавно прибывший из метрополии и работавший первый год – ему по традиции полагалось произнести торжественную речь. Обычно эта речь длилась полчаса или час, и молодой обладатель университетского диплома не упускал случая уснастить ее учеными тонкостями и литературными аллюзиями, что делало ее уже совершенно невнятной для алжирской публики. Жара нарастала, внимание рассеивалось, и веера мелькали все быстрее и быстрее. Даже бабушка начинала скучать и смотреть по сторонам. Только Катрин Кормери, по-прежнему внимательная, принимала, не моргнув глазом, падавший на нее[159] дождь мудрости и эрудиции. Жак вертелся, искал глазами Пьера и других одноклассников, подавал им знаки и затевал с ними долгий обмен гримасами. Потом собравшиеся шумными рукоплесканиями благодарили оратора за то, что он наконец умолк, и на эстраде приступали к вручению наград. Начинали обычно со старших, и в первые годы родным Жака приходилось просиживать во дворе лицея до вечера, дожидаясь, когда дойдет очередь до его класса. Под музыку вручались только высшие награды. Лауреаты, все более и более юные, вставали со своих мест, проходили через двор, поднимались на эстраду, получали поздравления, сопровождавшиеся рукопожатием чиновника, а потом и директора, который вручал им стопку книг (книги были сложены на тележках возле эстрады, и служитель подавал их директору, поднимаясь на эстраду чуть раньше ученика). Затем награжденный под музыку и аплодисменты спускался по лесенке с книгами под мышкой, ища глазами счастливых родителей, утиравших слезы. Небо постепенно теряло синеву, жара спадала, словно ее затягивала невидимая брешь где-то за морем. Лауреаты поднимались и спускались, звучали фанфары, двор незаметно пустел, и, только когда небо уже делалось зеленоватым, доходила очередь до младших классов. Как только объявляли его класс, Жак переставал дурачиться и становился серьезным. Когда выкликали его фамилию, он с гудящей головой вставал с места. Пробираясь к проходу, он слышал, как мать спрашивала у бабушки: «Он сказал «Кормери»? – «Да», – отвечала бабушка, розовея от волнения. Потом – шествие по цементному двору, эстрада, жилет чиновника с цепочкой от часов, добрая улыбка директора, иногда дружеский взгляд кого-то из учителей, сидящих на эстраде, и, наконец, возвращение под музыку к матери и бабушке, уже поднявшимся ему навстречу. Мать смотрела на него с каким-то радостным удивлением, он вручал ей книгу почета с именами награжденных, бабушка взглядом призывала соседей в свидетели его триумфа, все происходило слишком быстро после бесконечных часов ожидания, и Жаку хотелось поскорее оказаться дома и посмотреть подаренные книги[160].
Возвращались они обычно вместе с Пьером и матерью[161], а бабушка молча сравнивала обе стопки книг, прикидывая, у кого больше. Придя домой, Жак по бабушкиной просьбе первым делом загибал в книге почета страницы, где значилось его имя, чтобы она могла показывать их соседям и родственникам. Потом бросался рассматривать свои сокровища. Он не успевал еще дойти до конца стопки, как мать уже выходила из своей комнаты, переодетая, в домашних туфлях, застегивая полотняную блузку, и пододвигала стул к окну. Мать улыбалась ему. «Ты хорошо поработал», – говорила она и, глядя на него, кивала головой. Он тоже смотрел на нее, как будто чего-то ждал, а она отворачивалась к окну и застывала в своей обычной позе, далеко от лицея, который увидит снова не раньше, чем через год; комнату незаметно заполняла тьма, и первые фонари зажигались над улицей[162], где теперь двигались люди без лиц.
Мать забывала о лицее, едва увидев его, а Жак с этого дня внезапно оказывался лицом к лицу с семьей и надолго оседал в своем квартале, не покидая его до осени.
Каникулы возвращали Жака к прежней жизни среди домашних, во всяком случае, в первые годы. Здесь ни у кого не бывало отпусков, мужчины работали без перерыва круглый год. Только несчастный случай на работе давал им передышку – и то если на предприятии была на этот случай страховка, – и они отдыхали в больнице или в кабинетах врачей. Дядя Эрнест, например, когда ему стало невмоготу, решил, как он выразился, «взять страховку» и собственноручно срезал себе фуганком слой мяса с ладони. Женщины, в том числе Катрин Кормери, работали непрерывно, ибо отдых означал для всех более скудные трапезы. Потеря работы была катастрофой, которой боялись больше всего на свете, ибо страховки от нее не существовало. Поэтому все эти работяги, в семье Пьера, как и в семье Жака, такие мирные и покладистые в повседневной жизни, становились расистами, как только дело касалось работы, и обвиняли по очереди итальянцев, испанцев, евреев, арабов и весь белый свет в том, что у них крадут работу, – настроение, разумеется, огорчительное для теоретиков пролетарской солидарности, однако по-человечески вполне понятное и простительное. Эти странные националисты оспаривали у других народов не мировое господство и не богатство, а право на рабство. Работа была здесь не гражданской добродетелью, а необходимостью, которая, давая возможность жить, приближала смерть.
Во время жестокой летней жары, когда из столичного порта отплывали один за другим переполненные пароходы, увозя чиновников и состоятельных людей за море, к благотворному «французскому воздуху» (возвращаясь, они рассказывали невероятные истории про зеленые луга и реки, полноводные даже в августе), в жизни бедных кварталов не менялось ровно ничего, и, в отличие от опустевшего центра, они выглядели летом еще более многолюдными из-за огромного количества хлынувших на улицу детей[163].