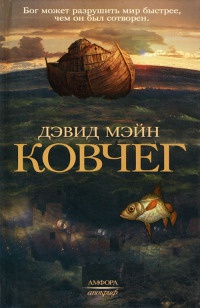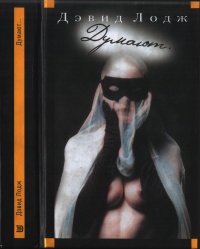Книга Город - Дэвид Бениофф
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мне стало неловко — будто, рассказывая, Коля сам себя распаляет.
— И в часть ты опоздал.
— Еще как. Только я не волновался — подумаешь, поймаю еще какую-нибудь попутку. Мальчишек-вестовых-то я всех знаю, это нетрудно будет. Но ты бы видел, как я от Розы выходил. Совсем другим человеком. Спокойный, иду — улыбаюсь во всю харю, шаг упругий. Только из дверей выпархиваю на панель — а тут патруль. Человек пять-шесть, суки. Останавливают. Где увольнительная? Нет увольнительной. Пакет в город привез от генерала Стельмаха. Операцию готовит, винтовки нужны, минометы, некогда ему было увольнительную мне подписывать. Подтираться мне ею, что ли? А Стельмах, по-моему, твоего племени, ты не знал?
— Ты до конца когда-нибудь дойдешь? Или мне тебя всю жизнь слушать?
— В общем, этот опарыш начинает меня допрашивать. А у самого усики такие, как у Гитлера. То есть в СССР, наверно, все, у кого такие усики были, их уже сбрили давно, а этот — нет. Скотина явно думает, что они ему к лицу. И спрашивает, почему это я пакет от генерала Стельмаха доставляю в жилой дом на Выборгской стороне. Ну, я думаю, чутка правды подпустить не помешает, и отвечаю по форме: так, мол, и так, пока ожидал транспорта в генеральскую ставку, встретился с девушкой. Подмигиваю ему — к человеческим, значит, чувствам взываю. И что ты думаешь? Хлопнул он меня по плечу, сказал, чтоб в следующий раз увольнительная была? Ничего подобного. Я четыре месяца на передовой вшей кормил, пока он тут по Питеру расхаживал, опарыш этот усатенький, задерживал честных солдат, которые мяска матери привозили, риса мешочек… В общем, дал я маху. Ничего человеческого в нем уже не было. Своим мигнул, меня в наручники быстренько — и оформили. А он улыбается мне эдак гаденько свысока и говорит: генерал Стельмах сейчас в Тихвине, и операция у него уже успешно завершилась.
— Не надо было вообще его называть. Это ты сглупил.
— Ну конечно, сглупил! У меня член еще не обсох, как не сглупить?
Партизаны заворочались и заворчали, чтоб Коля заткнулся, поэтому он опять перешел на шепот.
— У меня мозги не работали. Я просто ушам своим не поверил, когда он обвинения предъявил. У кого хочешь голова закружится. Днем ты еще образцовый боец Красной армии, а через пять часов — уже дезертир. Думал, меня тут же на улице и расстреляют. А меня вместо этого — в «Кресты». Так я тебя и встретил, мой маленький угрюмый семит.
— А почему Юля умерла?
— Кто? А… не знаю. От голода, наверно.
Мы полежали тихо, слушая, как храпят вокруг мужики. Некоторые просто сопели, некоторые надсадно кашляли, кто-то сипел, как ветер в печной трубе. Я попробовал различить Викино дыхание. Интересно — как она спит ночью? Но ничего не услышал.
Сначала я злился, что Коля не давал мне спать своей нескончаемой болтовней, но в наступившем молчании мне стало как-то одиноко.
— Спишь? — спросил я.
— Умгм… — сонно ответил он. Конечно, дорассказал, что хотел, можно и на боковую. Десятый сон небось уже видит.
— А почему ночью темно?
— Чего?
— Ну, на небе же миллиарды звезд, почти все — яркие, как солнце, а свет путешествует вечно. Почему же тогда не светло все время?
Ответа я не ждал. Думал, фыркнет и скажет, чтоб я не болтал глупостей и тоже спал. Или отбоярится как-нибудь, вроде: «Ночью темно, потому что солнца нет». А он вдруг подскочил и сел. И воззрился на меня. В угасавших отблесках пламени в буржуйке я видел, что он хмурится.
— Это отличный вопрос, — сказал он. Еще неумного подумал, вглядываясь в темноту за кругом света от печки. Затем покачал головой, зевнул и опять рухнул на свою шинель. Через десять секунд он уже крепко спал, и всхрапывал при этом.
Когда снаружи сменился часовой, я еще не уснул. Он вошел, разбудил смену, подбросил хворосту в умирающий огонь и улегся в круг спящих тел. Еще где-то с час я лежал и слушал треск сучьев, думал про свет звезд и Вику. Пока наконец не забылся во сне и мне не приснилось, как с неба сыплется дождь из пухлых девушек.
Часовой разбудил нас перед полуднем — с треском ввалился в дверь. Он старался не кричать, но в голосе звенела паника.
— Идут, — сказал он. Мы вскочили, не успел он продолжить. Сон как рукой сняло. Спали мы, не разуваясь, поэтому готовность была что надо. — Похоже, рота. С пленными.
Корсаков накинул на плечо ремень винтовки:
— Пехота?
— Танков не заметил.
Через полминуты мы вывалились из сторожки на враждебный солнечный свет. Внутри было темно, как в склепе, и я невольно зажмурился. Мы двигались за Корсаковым. Приказ был понятен и без слов: драпаем.
Шансов у нас не было. Не успел последний партизан выскочить из сторожки, а я уже слышал немецкую речь. Они что-то орали. Я весь превратился в зверька — ни единой мысли в голове, только страх вперед гонит. Потеплело, снег стал влажен и рыхл, так и норовил засосать ботинки поглубже.
Помню, лет девять мне было, и в Питер приехала делегация знаменитых французских коммунистов. Улицы к их приезду привели в порядок. Помню дорожных рабочих: к губе папироса прилипла, кидают лопатами свежий асфальт на улицу Воинова, а потом ровняют его такими дощечками на длинных ручках. И улица после них становилась прямо-таки бульваром расплавленного шоколада. Мы с близнецами Антокольскими все утро смотрели от ворот Дома Кирова. Не помню, от чего именно в нас вспыхнул этот порыв. Но не сговариваясь, даже не глянув друг на друга, мы скинули башмаки, швырнули их во двор и помчались через дорогу. На подошвах могли остаться волдыри от горячего асфальта, но нам было все равно. Позади оставались цепочки следов, а мы, оказавшись на другой стороне улицы, не остановились, бежали дальше. Рабочие матерились, грозили лопатами, но не гнались — все равно бы не догнали.
Вечером мать целый час сердито оттирала мне пятки — мылом, пемзой. Отец же стоял у окна, заложив руки за спину, и старался не улыбаться. Он смотрел сверху на Воинова — мостовая под фонарями была идеально гладка, если не считать трех пар мелких следов, пересекавших дорогу, как следы чаек на мокром песке.
По горячему асфальту бегать — это тебе не по тающему снегу. Сам не знаю, отчего эти воспоминания у меня до сих пор связаны.
В ельнике захлопали выстрелы. Одна пуля прожужжала совсем рядом, так громко и близко, что я дернул рукой — проверить, не задело ли голову. Партизан, бежавший передо мной, запнулся и упал. Упал он так, что я понял: больше уже не встанет. Сам я бежать быстрее не мог — и не мог бояться сильнее; прямо у меня перед носом убили человека, но ничто не всколыхнулось во мне. В тот миг я уже не был Львом Абрамовичем Беневым. Не было у меня никакой матери в Вязьме, не было и отца, похороненного на неведомом клочке земли. Не было дедов по отцовской линии — талмудистов в черных кипах, не было предков по материнской — московских мещан. Если бы в тот миг меня за шиворот схватил немец, встряхнул и на чистом русском языке потребовал назвать имя, я бы не смог ему ответить. Даже двух слов связать бы не смог, чтобы взмолиться о пощаде.