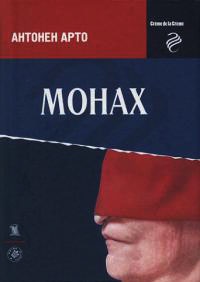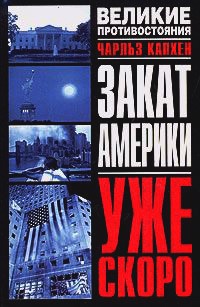Книга Кассия - Татьяна Сенина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Девочка к концу беседы действительно заметно соскучилась. Игуменья смотрела на нее и думала, что только один раз в жизни прежде видела волосы такого прекрасного и вызывающего оттенка – огненно-рыжие, они словно окружали голову Евдокии сиянием: такого же цвета была шевелюра Анастасия Мартинакия, давшего ей пятнадцать ударов бичом и совет «поменьше подражать амазонкам»… «Да ведь и они Мартинакии! – внезапно сообразила Кассия. – Уж не родственники ли?.. Занятно!»
– Спаси тебя Господь, мать! – сказала, наконец, Александра, вставая и кланяясь игуменье в пояс. – Правду мне сказали о тебе, когда советовали пойти сюда, что ты умеешь ободрить и утешить… Храни тебя Бог, тебя и сестер, и обитель твою!
– Во славу Божию! – ответила Кассия.
– Даст Бог, матушка, как-нибудь еще зайду сюда… Хорошо у вас тут! – Александра повернулась к дочери. – Попрощайся с матушкой, Евдокия.
Девочка несколько мгновений молча глядела на игуменью, а потом сказала:
– А ты красивая!
– Евдокия! – с укором воскликнула Александра.
Кассия улыбнулась.
– Ты тоже будешь красивой, Евдокия, – сказала она. – Но не в этом главное.
– А в чем? – спросила девочка, бессознательно театральным жестом отводя со лба рыжую прядь.
– Это ты сама должна понять.
Евдокия долгим и серьезным взглядом посмотрела на Кассию и сказала:
– Хорошо, я попробую. А мы еще встретимся?
– Не знаю, – с улыбкой ответила игуменья. – Может, и встретимся.
Мать и дочь ушли, Кассия закрыла за ними дверь кельи и постояла немного в задумчивости. Неясное предчувствие говорило ей, что она еще услышит о рыжеволосой девочке с зелеными глазами. На память ей снова пришел Анастасий Мартинакий. «Что бы он сказал обо мне сейчас?» – вдруг подумала Кассия. Ей вспомнилось, как в юности она воображала себя амазонкой, сидя верхом на лошади и оглядывая окрестные поля с вершины холма, возле которого познакомилась с Акилой. Даже когда она уже избрала свой путь, ее представления о монашестве во многом были продолжением тех же детских мечтаний: манящее сияние подвигов, борьбы и славы… Много лет должно было пройти, прежде чем она поняла, что воображавшийся ей тогда «великий и светлый путь», исполненный непрестанной помощи Божией и чуть ли не каждодневных знамений и чудес – такой же миф, как легенды об амазонках. На деле дорога оказалась далеко не такой прямой, легкой и сияющей, но полной претыканий, блужданий в тумане, иногда шла и по краю пропасти, а помощь Божия наиболее явственным и чудесным образом приходила там, где иссякала всякая сила, всякая надежда на избавление – тогда, когда Кассия чувствовала себя не «амазонкой», а маленькой беспомощной девочкой, потерявшейся в лесу… И на пути к божественному свету, который дано было ей познать, она пережила столько всего, что свои детские представления о монашестве могла вспоминать теперь только с улыбкой – однако без грусти или досады: та восторженность была состоянием духовного младенчества и для «младенца разумом» была вполне естественна, даже нужна… Значило ли это, что Кассия давно перестала быть «амазонкой»? Пожалуй, да, но только в некотором смысле. В других отношениях она была ею всю жизнь – в противном случае она не смогла бы ни устоять перед Феофилом на смотринах, ни создать свою обитель, ни принять духовный совет от последнего ересиарха, ни продолжать дружбу со Львом после его ухода к иконоборцам, ни молиться за императора в то время, когда большинство ее единоверцев ждали его смерти…
«Всё-таки я так и осталась “амазонкой”!» – подумала Кассия и улыбнулась: она была уверена, что Мартинакий был бы этим доволен.
Никто не терпит того, чтобы быть побежденным в споре, пусть даже он знает, что истинно то, что он слышит.
После позорно провалившейся попытки обвинить патриарха в блуде противники Мефодия прикусили языки, тем более что отшельник Иоанникий всячески поддерживал святейшего и не только ободрил, когда тот посетил его на Антидиевой горе, но и всем, приходившим к нему, говорил, что противящиеся патриарху идут против Церкви и отлучают сами себя от божественной благодати. Теперь уже мало кто решался открыто критиковать какие-либо действия Мефодия и защищать студитов, по-прежнему живших в своих монастырях под гнетом анафемы. Некоторые из порицавших патриарха клириков и монахов покаялись и просили у него прощения. Выселять непокорных иноков из Студия и Саккудиона Мефодий не стал, сочтя, что так они, осужденные и отгороженные от всех, будут лишены возможности смущать остальных. К тому же логофет дрома дал понять, что разогнать Студийскую обитель патриарху не позволят в любом случае.
– Владыка, – сказал Феоктист, – ты, кажется, забыл, как окончили жизнь те императоры, которые устраивали гонения на Саккудион и Студий, – Константин, Никифор, а потом и Лев. Я не особенно суеверен, но всё же иные уроки, подаваемые нам божественным промыслом, слишком очевидны, чтобы забывать о них. Государь Феофил поручил мне заботиться о том, чтобы царствование его супруги и сына было спокойным и долгим, и я постараюсь приложить все усилия для этого. Я знаю, кое-кто из твоих единомышленников готов даже разогнать обе эти обители, но не думай, что мы это допустим! С тех пор как ты занял кафедру, святейший, ты делал в Церкви всё, что хотел. Тебе уступлено много – может быть, слишком много. И я бы советовал тебе не ждать чего-то большего!
– О, я вовсе не собираюсь закрывать эти монастыри, господин, и ничего у вас более не прошу, – ответил патриарх. – Сделанного вполне достаточно.
Вокруг Мефодия образовалось что-то вроде кружка «книжников». Монахи Свято-Феодоровского монастыря, где скончался святитель Никифор, передали его личную библиотеку в дар патриарху. Там были святоотеческие книги, философские трактаты и хроники, сочинения самого патриарха-исповедника и еще несколько произведений, написанных в недавнее время, в том числе «Хронография», составленная игуменом Великого Поля, и житие игумена Мидикийского Никиты, написанное его учеником Феостириктом, – и теперь Мефодий вознамерился пополнить это собрание новыми сочинениями, прежде всего житиями исповедников времен иконоборческой ереси и похвальными словами в честь их подвигов.
Когда из Самарры в Константинополь дошла весть о кончине сорока двух аморийских пленников, патриарх сразу же объявил, что они умерли как мученики и достойны церковного почитания. Константин Вавуцик в ночь перед их мученичеством продиктовал нотарию Константину письмо, где вкратце описал их жизнь в плену, а в конце говорил: «Написал же я это для того, чтобы все наши родные и братия знали и не сомневались, что мы умерли христианами и за Христа. Да будет с нами святая Его воля!» Агаряне согласились переправить это послание на родину страдальцев. Константинопольцы были потрясены происшедшим, особенно много слез пролилось во дворце. Впрочем, все утешали Софию, говоря, что ее супруг стал святым мучеником и, конечно, не оставит ни ее, ни детей без помощи.
Патриарх написал стихиру в честь новых святых и поручил диакону Игнатию написать им канон. Игнатий после торжества православия оставил преподавание в школе при храме Сорока мучеников и удалился в Пикридиев монастырь. Но спустя полгода патриарх вызвал его в столицу: поскольку Игнатий раскаялся в своем общении с иконоборцами еще в царствование императора Михаила и с тех пор не служил, а жил как простой монах, Мефодий счел возможным даровать ему прощение, как некогда было прощено падение Мидикийского игумена. Игнатий был принят в сане диакона, который имел до начала иконоборчества, а еще спустя год патриарх сделал его скевофилаксом Великой церкви.