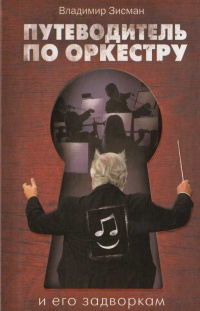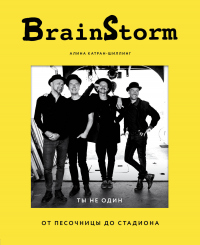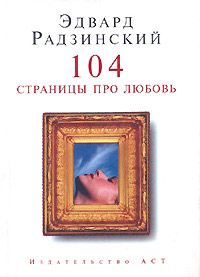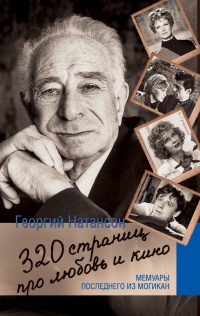Книга Джордж Оруэлл. Неприступная душа - Вячеслав Недошивин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ну и напоследок, что ли, улыбнитесь вместе со мной. Когда он в конце жизни переберется на почти необитаемый остров Юра, то именно там псевдоним сыграет с ним, может, самую курьезную штуку. Вместе с Оруэллом, уже смертельно больным, и малышом, приемным сыном его, переедут на остров его сестра Эврил и няня, взятая для присмотра за ребенком. Так вот, две женщины не просто не уживутся друг с другом – рассорятся. Тоже война людей и идей. Рассорятся… из-за псевдонима. Няня, обращаясь к писателю, звала его Джордж, а Эврил всякий раз раздраженно поправляла ее: «Нет, его зовут Эрик!..» Как напишет позже сын Оруэлла, именно из-за этого женщины и разругались, и няне его, которую он успел полюбить, пришлось спешно покинуть и остров, и человека, имевшего два имени.
Шуры энд муры
1.
Вот не могу представить, как он, – иронист, насмешник, каких поискать, – обмывал статую женщины. Да не прикола ради – всерьез. И не просто женщины – Девы Марии. И не просто водой, а какой-то специальной, «луковой». Наконец, не напоказ, для публики – в одиночестве, в церковном дворике забытого сельского храма.
Мой бывший зять – прошу прощения за личный «мемуар»! – молодой художник-авангардист, когда-то, в начале 1990-х, повез из Москвы в Петербург два ведра воды, чтобы обмыть ноги знаменитым мраморным атлантам Эрмитажа – выполнить, так сказать, «урок поклонения искусству». «Акция», говорили тогда, «перфоманс», входивший в моду… А Оруэлл, не верующий ни в какого Бога, вымыл вдруг статую в качестве (как написал одной девушке, в которую был влюблен) «своего вклада в содержание церкви». Да еще «нахулиганил» – постарался, пишет, придать Деве Марии облик дамы «фривольной», вот как во французском издании La Vie Parisienne. В чем состояло «хулиганство» – не пояснил. Но в числе всех «необычностей» его, начиная со стояния на голове до упорного курения вечных самокруток вместо превосходных английских сигарет, этот поступок особенно и не удивлял. Не удивит меня и совсем уж дикий, чисто подростковый курбет его, который случится вот-вот, когда он, работая учителем в частной школе, пошлет на день рождения городскому инпектору… дохлую крысу. С крысами, как помним, у него были какие-то свои – личные – счеты…
Удивляет другое: его необычное на протяжении всей жизни отношение не к Богу, не конкретно к Деве Марии – отношение к встреченным женщинам. Об этом, правда, мало известно: мало писем, свидетельств и воспоминаний. Скажем, в дневниках его, писать которые он бросал порой на долгие годы, но которые тем не менее насчитывают почти 400 страниц, о любви к женщинам, да к тем же будущим женам нет, считайте, ни слова. Негде «разгуляться» биографу.
Сразу скажу: святым не был. И хорошо. Один из последних биографов его, Гордон Боукер, прямо пишет, что он в одной из ранних переписок с девушкой был даже, пожалуй, «похотлив». В другом месте можно прочесть по его адресу: «сексуальный хищник». Его подружка Бренда Солкелд позднее, в 1960 году, скажет в эфире «Би-би-си», что «в действительности он не любил женщин». Но та же Мейбл Фирц возразит: «Он был скорее бабником, хотя и боялся, что непривлекателен». Он часто говорил ей якобы, «что есть одна вещь в мире, которую он бы очень желал себе, – это быть привлекательным для женщин. Он любил женщин, и, вероятно, у него было много подруг в Бирме, – пишет она. – У него была девушка в Саутволде и еще одна в Лондоне… Какой-то свет на то, каким он был в реальности, – утверждала Фирц, – проливает его роман “Да здравствует фикус!”, который описывал – нет, не его в точности, не то, о чем он думал, – манеру вести себя. Даже не так, – поправляет она себя, – то, как он хотел бы вести себя…».
Вот это – «любил женщин» и одновременно считал себя «непривлекательным» – это, пожалуй, так. «Ни одна не посмотрит, не оглянется… – как напишет потом в одном из романов про своего героя. – Тридцать скоро, кислый, линялый, необаятельный». Правда, Малькольм Маггеридж много позже скажет: «В действительности он не был ни в коем случае нелюбим окружающими и обладал большим обаянием; женщины, быть может, даже больше мужчин находили его привлекательным. Однако ничто не могло излечить его от убеждения, что он и плохо сложен, и лишен грации, и некрасив…»
Но святым, повторю, не был! Обычным был человеком. Ну, может, более скрытным, чем остальные, скорее молчаливым, чем болтливым, излишне, возможно, задумчивым, словно решавшим какой-то вечный вопрос, – и очень одиноким внутренне.
Когда Кей Икеволл, девчушку-машинистку, с которой у Эрика возникнет роман, спросили в том откровенном интервью: «А на ваш взгляд, Оруэлл был человеком замкнутым?», она, уже старушка за семьдесят, ответила: «В каких-то отношениях – да. Он обсуждал что-либо только с теми людьми, которых чувствовал. И не думаю, что он легко расширял свой круг… Конечно, многие говорят, что он был довольно скрытным, но я должна признаться, что он был… и очень честен…»
Этот «честный» человек в Саутволде и одновременно в Лондоне «честно» крутил в те два-три года романы не с двумя – сразу с тремя девушками. Осуждать? Но за что же? Скорее, завидовать! Тем более что двух из них он честно звал замуж. Обе – это известно – отказались. Согласится позже четвертая – Эйлин, которая и станет любимой женой.
До 1932 года, пока «уходил в низы», Оруэлл перебивался с жильем в Лондоне, снимая дешевые углы, и время от времени наведывался в родительский дом, в Саутволд. Осел в домашнем гнезде, когда поставил точку в «Фунтах лиха» и когда почти сразу, достав пожелтевшие уже листы набросков к «бирманскому роману», всерьез взялся за новый труд. Для заработка с начала тридцатых искал работу, по первости репетитором, а позже – даже учителем в двух, одна за другой, школах.
Первым его «репетируемым» стал ребенок-инвалид в Саутволде, которого он взялся натаскивать «в науках» (о нем, увы, ничего не известно), а сразу за ним взял в ученики трех юных братьев Петерсов. Один из них, Ричард, вырастет потом в знаменитого ученого, станет профессором философии и в 1970-х годах вспомнит, каким увидел когда-то Оруэлла. «Это был, – напишет, – худой долговязый человек, с огромной, дыбом стоящей копной волос, качавшейся в такт его легким широким шагам. С тихой обезоруживающей улыбкой, которая давала понять, что вы ему интересны и забавны… Никогда не держался свысока… На уроках… ни тени догматических нравоучений».
В это вот время и появилась в его жизни Бренда – Бренда Солкелд, дочь бедфордширского священника, жившего в Саутволде по соседству. До этого Эрику нравилась какая-то Дора Жорж, местная школьница, которой он еще в 1930-м посвятил таинственный стих «Ода темной леди», и вот – возникла Бренда, воспитательница школы-интерната для девочек. То есть как – возникла? Он знал ее давно, она дружила и с ним, и с его сестрой Эврил, а влюбился – уже потом. И потом сделает ее героиней своего второго после «Дней в Бирме» романа – «Дочь священника».
Бренда работала в школе тренером по гимнастике. Была чуть старше его, была доброй, самоотверженной, ответственной и глубоко верующей девицей, которая взваливала на себя всё: от заботы о старом отце с «запросами» (он вечно требовал от дочери вместо слова «обед» говорить «ланч»!) до помощи местной церкви и, конечно, до убойной работы в школе, где она была организатором всего и вся, начиная с проведения экскурсий и заканчивая организацией спектаклей и всяческих концертов.