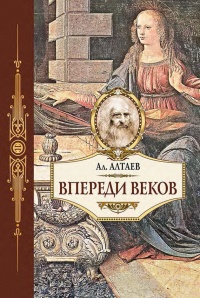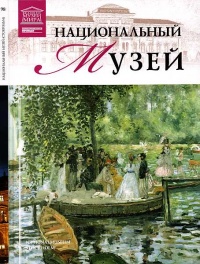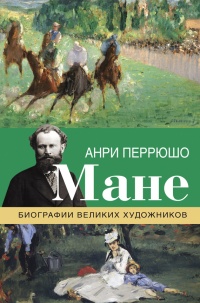Книга Ренуар - Паскаль Бонафу
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Алина должна была рожать. В преддверии этого события она пригласила приехать в Париж из Эссуа свою кузину Габриель. Алина рассчитывала, что Габриель будет присматривать за малышом и играть с ним. А уход и кормление младенца она не собиралась доверять никому. Пятнадцатилетняя Габриель ещё никогда не покидала Эссуа. Она бы заблудилась в Париже, если бы Алина не встретила её на Восточном вокзале. А Ренуар, вернувшись из Нормандии, быстро оценил, что Габриель может стать отличной моделью…
Пятнадцатого сентября, вскоре после полуночи, акушерка в одной из комнат «Замка туманов» приняла роды и показала Алине её младенца. Это был мальчик. И Алина, взглянув на него, воскликнула: «О боже, какой же он уродливый! Унесите его от меня!» Мнение Ренуара было не более радостным: «Какой рот! Настоящая печь! Да он будет обжорой!» И только Габриель, которую никто не спрашивал, прошептала: «А я нахожу его красивым!»
Приезд Габриель и рождение второго сына заставило Ренуаров перераспределить комнаты в доме. Все они были оформлены одинаково: стены выкрашены в белый цвет, а двери — в серый. Ренуар потребовал, чтобы серую краску готовили с жжёной костью, а не с персиковой чёрной. Он считал, что персиковая чёрная краска придаёт серому цвету голубоватый оттенок. В вестибюле на первом этаже дверь налево вела в гостиную, а направо — в столовую, которую Ренуар украсил мифологическими сюжетами. В самом конце коридора находились кухня и буфетная. Комната Габриель располагалась на втором этаже над кухней, а над буфетной была ванная, где на мраморных туалетных столиках стояли тазы для умывания, а ванну принимали в цинковых лоханях. Комната Алины была над гостиной, а напротив — комната Пьера. Ренуар спал на третьем этаже, где располагалась также комната для гостей.
Габриель оказалась очень бойкой девушкой, она быстро освоилась на новом месте. Она была счастлива, когда обнаружила около дома сад, в котором не было навоза. Габриель с любовью занималась Жаном, всё время брала его на руки, несмотря на замечания Алины. Она быстро исследовала район «маки» — густых зарослей, где можно было собирать улиток. Там среди колючих кустов боярышника и шиповника ютились бараки и хибары из досок и брезента. Она быстро перезнакомилась со всеми в округе, от торговки рыбой Жозефины до поэта Биби ла Пюре. Постепенно каждодневная жизнь в семье Ренуаров обрела порядок и нормальный ритм, что позволило Ренуару писать без устали. Вне всякого сомнения, он мог бы снова повторить эти фразы, написанные им четыре года назад одному из друзей: «Как только оказываешься заключённым в четырёх стенах мастерской — забываешь обо всём, и лишь самое лёгкое воспоминание о природе полезно».
Но вдруг осенью всё снова оказалось под угрозой. Ренуар был в Версале, когда неожиданно у него начался острейший приступ ревматизма. Ему пришлось срочно вернуться в Париж. Там он оставался прикованным к постели и не смог даже присутствовать на похоронах Норбера Генетта. Этот художник, который также несколько раз был его моделью, внезапно скончался в 40 лет. Вынужденный оставаться дома, Ренуар следил за глубоким кризисом, коснувшимся как импрессионистов, так и всей Франции. Капитан Дрейфус, обвинённый в государственной измене, был осуждён военным трибуналом в декабре 1894 года. Дело Дрейфуса поделило страну на два лагеря. Одни считали, что обвинение капитана в шпионаже в пользу Германии необоснованно. Другие не сомневались в его справедливости ещё и потому, что Дрейфус был еврей. Появились дрейфусары и антидрейфусары. Ренуар, без колебаний, встал на сторону антидрейфусаров… Он очень опасался, что дело Дрейфуса вновь поставит под угрозу положительное решение правительства относительно коллекции Кайботта.
А «дело» о наследии Кайботта было ещё далеко от завершения. Это подтверждает статья Мирбо в «Ле Журналь» от 24 декабря 1894 года. Мирбо цитирует рассказ Ренуара о его встрече с Ружоном:
«— Принимаете Вы дар Кайботта или нет?
— Вы ставите нас в ужасное положение. Какая жалость, в самом деле, что господину Кайботту пришла эта злополучная идея в своём завещании выдвинуть условие! Почему бы ему не подарить свою коллекцию без всяких условий? Мы бы нашли ей подходящее место. Не было бы никаких проблем, и все были бы сегодня спокойны. А теперь, как видите, спорам нет конца. Поистине, странные идеи возникают порой у покойников.
— В конце концов, принимаете Вы дар или нет? Если количество картин в коллекции слишком велико и если Вы хотели бы придерживаться определённых правил, касающихся приёма картин одного и того же художника, что ж, тогда выбирайте те картины, какие Вам нравятся, и оставьте нам остальные.
— Но это невозможно! Мы должны взять всё или ничего!
— Так Вы берёте или нет?
— Это очень деликатный вопрос.
— Или Вы отказываетесь принять?
— Искушение велико.
— И тем не менее Вы должны остановить свой выбор на одной из этих двух крайностей.
— Какой Вы, однако! Чёрт возьми, дела никогда не принимали такой оборот! Позвольте мне поразмыслить».
Шёл месяц за месяцем. Правительство никак не могло принять окончательное решение. И наконец, в один прекрасный день Ружон пригласил душеприказчиков Кайботта.
«— Я принимаю дар, — заявил он.
— Ах, наконец!
— Да, я его принимаю. Только я помещу часть картин в Версале, другую — в Компьене, третью — в Фонтенбло и ничего в Люксембургском музее.
— Но позвольте, — возразили душеприказчики, — в завещании совершенно однозначно, ясно как день сказано: картины должны быть в Люксембургском музее или нигде.
— Но Вы игнорируете тот факт, что музеи в Версале, Компьене и Фонтенбло — всего лишь филиалы Люксембургского музея! И это не провинциальные музеи, чёрт возьми! И какие потрясающие исторические памятники! Людовик XIV, Наполеон III, Казимир-Перье!
— Или Люксембургский музей, или никакой!
— Ах! Вы просто несносны, в конце концов. Поразительно!
— Ну, так Вы окончательно решили, Вы отказываетесь?
— Я отказываюсь, не отказываясь. Я принимаю дар, не принимая! Мы снова вернёмся к этому делу лет через пятнадцать, если Вы не возражаете».
Сколько времени ещё придётся терпеть эту нерешительность? 19 января 1895 года Писсарро написал сыну: «Похоже, что государство определённо отказывается принять дар Кайботта! Что ты скажешь по этому поводу? Какая жалость, что Кайботту не пришла идея предложить своё наследие какому-нибудь иностранному государству, если Франция не захочет его принять. Это было бы увесистой пощёчиной». Слух об отказе, дошедший до Писсарро, был всего лишь сплетней. Дар Кайботта не был отвергнут. Но нельзя сказать, что он был принят… А вот что рассказал Воллар: «Когда Кайботт составлял завещание, по которому оставлял свою коллекцию Люксембургскому музею, он вспомнил те цены, какие Ренуар просил за свои полотна в то время, когда коллекционер их у него покупал. Испытывая угрызения совести из-за того, что приобрёл их так дёшево, и желая каким-то образом вознаградить художника, он завещал Ренуару, на его выбор, одну из картин своей коллекции. В это время Ренуар начал “продаваться”. Узнав, что один из коллекционеров готов заплатить 50 тысяч франков за “Мулен дела Галетт”, Ренуар, естественно, захотел взять это полотно. Брат Кайботта, его душеприказчик, заявил художнику, что коллекция должна быть передана в Люксембургский музей и будет крайне досадно, если её лишат одной из самых впечатляющих картин. Те же доводы он привёл Ренуару и относительно “Качелей”. В конце концов, так как в коллекции было много полотен Дега, брат Кайботта предложил Ренуару, чтобы тот согласился взять пастель Дега “Урок танца”. Но Ренуару быстро наскучило изображение музыканта, склонившегося над скрипкой, и балерины, поднявшей одну ногу в ожидании музыки, чтобы начать пируэт. Однажды Дюран-Рюэль сказал ему: “У меня есть клиент, ярый поклонник Дега”. И Ренуар снял картину со стены и отдал её торговцу. Когда Дега узнал об этом, он, не сдержавшись, отправил Ренуару прекрасную картину, которую тот когда-то позволил Дега унести из своей мастерской: женщина в голубом платье с неприкрытой грудью, изображённая почти в натуральную величину. Эта работа была написана Ренуаром в тот же период, что и его знаменитая картина «Улыбающаяся дама”. Я был у Ренуара в тот момент, когда ему так бесцеремонно была возвращена его картина. В ярости он схватил шпатель и стал резать им полотно. Платье уже превратилось в лохмотья, и он занёс нож над лицом. “Но, месье Ренуар!” — закричал я. Он задержал жест: “Ну, что ещё?” — “Месье Ренуар, Вы же сами говорили здесь когда-то, что картина — это как собственный ребёнок…” — “Вы надоели мне Вашими замечаниями…” Но рука его опустилась, и он вдруг заявил: “Написать эту голову мне стоило большого труда! Право, я её сохраню”. И он вырезал верхнюю часть картины… Ренуар стал яростно бросать в огонь разрезанные куски холста, а затем взял листок бумаги и написал одно-единственное слово: “Наконец”. Он положил листок в конверт, написал адрес Дега и поручил служанке отнести его на почту. Несколько дней спустя я встретил Дега, он рассказал мне эту историю и после минутного молчания спросил: “А всё-таки что он хотел сказать этим словом ‘наконец’?” — “Вероятно, что он, наконец, порвал с Вами отношения!” — “Ну и ну, только этого не хватало!” — воскликнул Дега. Он явно был в замешательстве…»