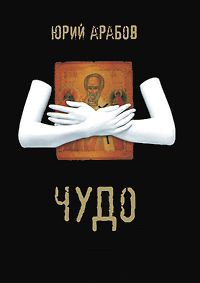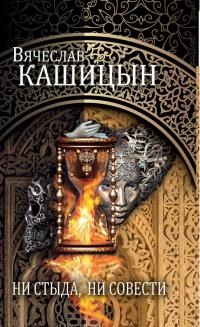Книга Труба и другие лабиринты - Валерий Хазин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Взгляд Даниила Шпильмана всегда становился невыразимо печальным, когда ему приходилось признаваться, что его обнаружили быстро и высадили почему-то в порту Тайбэя[176], где передали властям… Разумеется, добавлял он еще печальнее, выследили и выдали его конкуренты-хакеры. И теперь для него пребывание в клинике, посреди безмолвных заволжских пространств – единственное спасение от их хозяев, могущественных триад Гонконга[177]…
Даниила Шпильмана можно было отнести к числу самых приятных и даже веселых пациентов отделения, несмотря на то, что он страдал одновременно и от бессонницы, и от тяжелой гипнофобии – то есть вожделел сна и страшился его. Трюмные лабиринты, зеркальные витрины Сянгана, электронные библиотеки – кошмары, преследовавшие его изо дня в день, из ночи в ночь: он боялся, что умрет во сне и останется там навсегда. И в периоды обострения впадал то в обморочную депрессию, то в истерическую восторженность, или – как говорят на его родной Вятке – слегка придрянивал.
В такие дни он обычно писал и рисовал, как сумасшедший, и начинался из-под его карандаша настоящий листопад: обрывки с формулами и до дюжины великолепных рисунков в сутки.
И через некоторое время эти рисунки странным образом заинтересовали того, кого называли Заикой: несмотря на стойкое отвращение к письменности, он подолгу разглядывал их, разглаживая, медленно кивал, складывал в тумбочку. И как-то незаметно сошлись они. Казалось, не было у Шпильмана слушателя более благодарного и улыбчивого, чем Заика; а Даниил как будто научился понимать без слов, хочет ли его сосед спать, есть или слушать. И даже вроде бы рисовал Даниил что-то специально для Заики – конечно, за спиной или в отсутствие его – и только потом вручал…
Спорный вопрос: нельзя ли было обойти все эти подробности?
Ведь коль скоро издатель, публикатор, библиограф интересуется авторством текста, именуемого «Труба», – вопрошающему придется смириться с тем, что ответ попросту невозможен, если не понять, что представляли собой эти двое – Шпильман и Заика…
Естественно, тут не обошлось без женщины, хотя и не было ничего романического, а была медсестра по имени Мария, или Маня Погоняло: вечно всех жалеющая, вечно плывущая по палатам какими-то полукружьями, уютно пахнущая булкой с изюмом – словом, из тех, которые в любой больнице составляют обязательное исключение из общего персонала. Но при этом кажется само собой разумеющимся, что никакой иной судьбы, кроме попадания в психиатрическую клинику, не могло быть уготовано девушке с такой фамилией.
А Погоняло была её настоящая фамилия, доставшаяся ей от матери-алкоголички, поскольку росла Маша без отца. И, конечно, всю жизнь мучилась она и мечтала выйти замуж, чтобы новым именем поскорей смыть позор и мерзость угарного детства. И перед самым окончанием медучилища встретила юношу, и вроде бы сладилось у них, а когда дело уже подходило к свадьбе, выяснилось, что фамилия жениха – Ступило… Долго и горько плакала Маша, и подумала было взять девичью фамилию будущей свекрови, но тут и дошло до нее в невеселом изумлении, что от судьбы не убежишь, кармы, как говорится, не исправишь, дао не обманешь: оказалась эта фамилия не многим счастливее – Засучило. И Маша махнула рукой и осталась, как была, при прежнем имени – Мария Погоняло. А скоро и всё остальное вернулось на круги своя: стала Маша опять одинокой, поскольку семейная жизнь её не сложилась, и выгнала она мужа через год, уже работая в клинике. А больные метко прозвали её Маня Морокуша, потому что могла она – словом ли, ладонью или просто вздохом – унять многие слезы, утишить крик, утолить печаль. И почти все почти всегда начинали улыбаться, едва приближалась она, и долго улыбались потом, втягивая ноздрями – оставленный ею в воздухе – теплый, печной, изюмный аромат.
Даниил же Шпильман был попросту влюблен в нее, и через какое-то время даже видимо приревновал к Заике, когда Маша начала вдруг проявлять к тому повышенное внимание. И, очевидно, пережил Даниил несколько мучительных недель, закончившихся очередным срывом и усиленной терапией. Однако, и этот эпизод завершился чрезвычайно мирно: в дежурства Маша стала навещать Даниила чуть ли не два раза в день, и что-то такое нашептывала, поглаживая по руке – и снова взбодрился он, и глаза его засветились. Но и Заику не забыла она и не забросила; и настаивала, что нельзя человеку ходить по земле под таким именем, и почему-то стала звать его Ваней. И даже будто бы слышали больные, как говорила она: «Два у меня друга сердечных – Даня и Ваня. И оба добрые, и каждого жалко». А некоторые уверяли, что время от времени умудрялась Маня Морокуша как-то остужать кипящую плоть Шпильмана, и при этом не реже раза в месяц успевала приласкать и Заику – правда, никто не мог уточнить, когда и где именно.
Так катились недели, одна за другой, и всё длилось это странное сожительство, и, казалось, только крепнет день ото дня мужская дружба, с одной стороны, и не оскудевает нежность, с другой.
И, наверное, было бы так до скончания дней их, если б однажды не появился здесь человек по имени Бао Юй – один из немногих китайских выпускников Медицинской академии, кому разрешили проводить в клинике программные исследования в рамках интернатуры.
Был Бао Юй как-то избыточно, по-голливудски красив: правильное оливковое лицо, брови, будто вычерченные углем, и совсем не азиатские, большие миндалевидные глаза темно-черешневого цвета. По-русски говорил очень прилично, с приятным, как бы замедляющим язык акцентом.
Рассказывали, однако, что сначала, увидев его, Даниил Шпильман перепугался: забился в угол кровати, завернувшись в одеяло, а потом насупился и забормотал, что идти ему больше некуда, ибо пришли за ним грозные посланцы гонконгских триад.