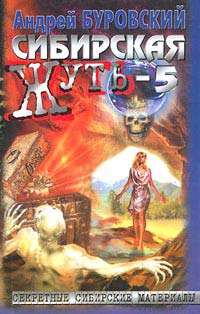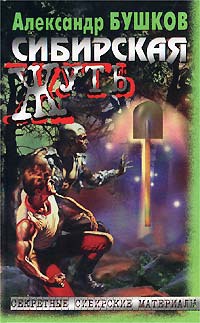Книга Сибирская жуть-2 - Александр Бушков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Воистину, тут каждый живет, как может и как хочет.
Я не хотел пива и пошел куда глаза глядят. Моя тропа шла по плоской вершине горы, на которой почти не было деревьев, так — ерниковые кустарники, куропаточья трава, какие-то виды дриады, мхи, росянка. Кое-где земля была не прикрыта ничем, там виднелись мелкие камни, дресва, щебень. Там, где трава исчезала, лежали маяки из складенных друг на друга камней, как тувинские обоо на голых горных перевалах…
Я снова брел один-одинешенек, брел по горной пустыне. Мне хотелось побыть одному, оттого и свалилось на меня это желанное одиночество… Я был в своих любимых Саянах. Наверное, на довольно большой высоте. Тут, глядишь, и снег пойдет…
По дальнему горизонту появились острые скалы, зубьями бороны поднимались они над плоскостью каменной пустыни. Было что-то знакомое в этом пейзаже, будто бы я уже видел когда-то нечто похожее… Да, это напоминает мне тот узел в Саянах, где мы вот сейчас, сегодня еще снимали наш телефильм…
Из голубого неба полетели белые мухи, небо стало затягиваться вуалькой, образовывались облака… На мне оказалась подходящая для этой погоды одежда, теплая, легкая, удобная… Вот уже и тропа, и камни, и верхушки кустиков стали покрываться белым налетом. На каменную землю тоже ложился снег…
Интересно, а можно ли здесь прокатиться на лыжах? Хорошо бы…
Снег повалил гуще, закрыл дали. Я, кажется, с трудом находил тропинку, что, впрочем, не вызывало у меня ни малейшего беспокойства. Свой путь я определял по древним каменным маякам — обоо. Скоро тропа пошла вниз. Впереди показались первые кущи кедров над изящной долиной неведомой речки…
На опушке кедровой таежки, прямо в снегу, стояли лыжи. На лыжах, зажатые креплениями, покоились ботинки. Лыжные палки были рядом, они торчали воткнутыми в снежный наст, в ременных петельках палок висели лыжные рукавицы. Все размеры были моими. Мне ничего другого не оставалось, как обуться, прикрепить лыжи к ботинкам, взять палки в руки и заметной лыжней помчаться в долину.
Свежий ветер дул в лицо, овевал всего. Я летел как птица, как когда-то в далекой молодости. Было несказанно приятно. У покрытой голубым льдом, бутафорским льдом, речки лыжня полого пошла вверх. Снова мне было хорошо. Я скользил по лыжне, дыхание было ровным, я не ощущал своего сердца. Вот оно где, благо, вот они — блаженство и счастье.
Я поднялся на невысокий перевал в заснеженном хвойном сибирском лесу и опять птицей полетел вниз, в долину, в зеленую, цветущую, красивую, как волшебная сказка. Волшебная сказка, это мне все снится. Нет, сон никогда не бывает так естествен и ярок.
У нижней опушки леса снег кончился. Дальше была весна. Тропа петляла по опушке, по светлой поляне, только освобождающейся ото льда, от сугробов и снежников, от зимы. По весеннему лугу поднимается молодая трава и нежно зеленеет. Тут же цветет золотистый рододендрон, растет черемша, горные первоцветы…
Я оставил лыжи под великолепным образцом горного кедра с вычурной ветровой кроной. Увидев кедр, я сразу же пожалел, что нет у меня в руках привычного фотоаппарата. Он был красив, этот кедр над неведомой долинкой. Такого кедра, подумал я, сам Тойво Ряннель не видывал…
Увы, фотоаппарат не появился в моих руках. Чего нет, того нет. Не над всем властна моя мысль, даже тут, в этой стране мечты.
Я вышел из кедровника на луг и тотчас же увидел на скамеечке молодого человека, очень молодого, кажется, он только что сдал экзамены на аттестат зрелости… Он был мне смутно знаком, этот мальчик. Я шел к нему и смотрел на него во все глаза… Боже мой, да ведь это же Петя Атаманов, Петя — самый маленький мальчишка нашего класса. Я учился с ним со второго класса по десятый. Мы часто вместе ходили в школу, он жил где-то за нами, на берегу енисейской протоки. Когда его в 1943 году призывали, семнадцатилетнего, в армию, он был настолько маленьким и бессильным, что его призыв тогда отложили на пару месяцев, пусть-де подрастет.
Петя в детстве был беден до грани возможного. Отца у него не было, я не помню обстоятельств его исчезновения, не было, и все тут. У моего одноклассника были сестры, кажется, много. И Петя был старшим. Он всегда был чистенько, но очень бедно одет, он даже книжки носил в школу до самого десятого класса в холщовой сумочке, самотканой и самошитой. Это был серенький мешочек, бесцветный, и его хозяин был похож на свой мешок, он тоже был сереньким и бесцветным: обесцвеченные какие-то глаза, волосы, лицо, да, на лице были яркие веснушки, впрочем — это по весне, к осени они исчезали, обесцвечивались, тухли…
Помню один эпизод из жизни класса, к счастью, известный только ограниченному кругу лиц. Однажды, когда случайно в классе оказались наши самые задиристые девчонки, туда вошел Петя со своей сумочкой. Девчонки окружили его:
— Петя, а ты, прости нас за любопытство, не девочка? У тебя хоть мужской инструмент-то есть?
Вот так, слово за слово, да и повалили девчонки нашего безответного Петю на учительский стол да и стащили с него бедненькие штанишки из деревенского холста с одной пуговичкой и принялись изучать Петин инструмент… В классной комнате стояла дикая тишина, когда я распахнул дверь и вошел туда…
Девчонки оставили Петю на столе и умчались в коридор, смущенные своей необузданной смелостью и дурью. Петя, красный как помидор, весь в слезах и рыданиях сполз со стола и поплелся из класса…
Я стоял и не знал, что тут можно сделать. Я бы навсегда сбежал на его месте из родного села. Навсегда! Я постоял, раздумывая, и пошел искать Петю, слово утешения сказать, поддержать его как-то, успокоить. Я нашел своего товарища в темном уголке школьного сада. Он выплакался, но все еще тихо всхлипывал, вытирая слезы подолом рубашки…
В сорок третьем взяли Петю в армию, он сам выбил себе это право. Он погиб вскоре, погиб в эшелоне на прифронтовой железной дороге при бомбежке, когда их часть везли к местам боев.
Тут, в блаженной стране, я узнал Петю сразу. Это был он, хоть и сильно не похож на самого себя. Он не вырос, не возмужал, он и погиб-то в неполных восемнадцать, но он стал больше, крупнее, массивней. Четкий рисунок бровей на красивом лице, яркие глаза, живым соком налитые щеки, разворот плач, гимнастическая фигура, уверенный взгляд. Он смотрел на меня. Я — на него. Я заговорил первым:
— Ты — Петя Атаманов?
— Да… А ты Миша? Ты… постарел… Тебе уже тридцать?
Мне не хотелось говорить Пете о своих годах, мне вообще уже не хотелось разговаривать, я был перегружен впечатлениями, я был полон какой-то боли. Всех, кого я видел сегодня, я когда-то любил, мне их, может быть, всю жизнь недоставало. Правда ведь сказано: в каждом приятеле умирает и часть тебя…
— Петя, ты такой… красивый. Как это?
— Миша, я всегда был такой, вы все просто не хотели видеть меня таким. Вы замечали мое внешнее и не видели моего внутреннего мира.
Петя наклонился и сорвал побег черемши, пробившийся сквозь волглую землю. Он сорвал его и поднес ко рту. А побег остался в земле, будто никто его и не трогал… Воистину, блаженная страна…