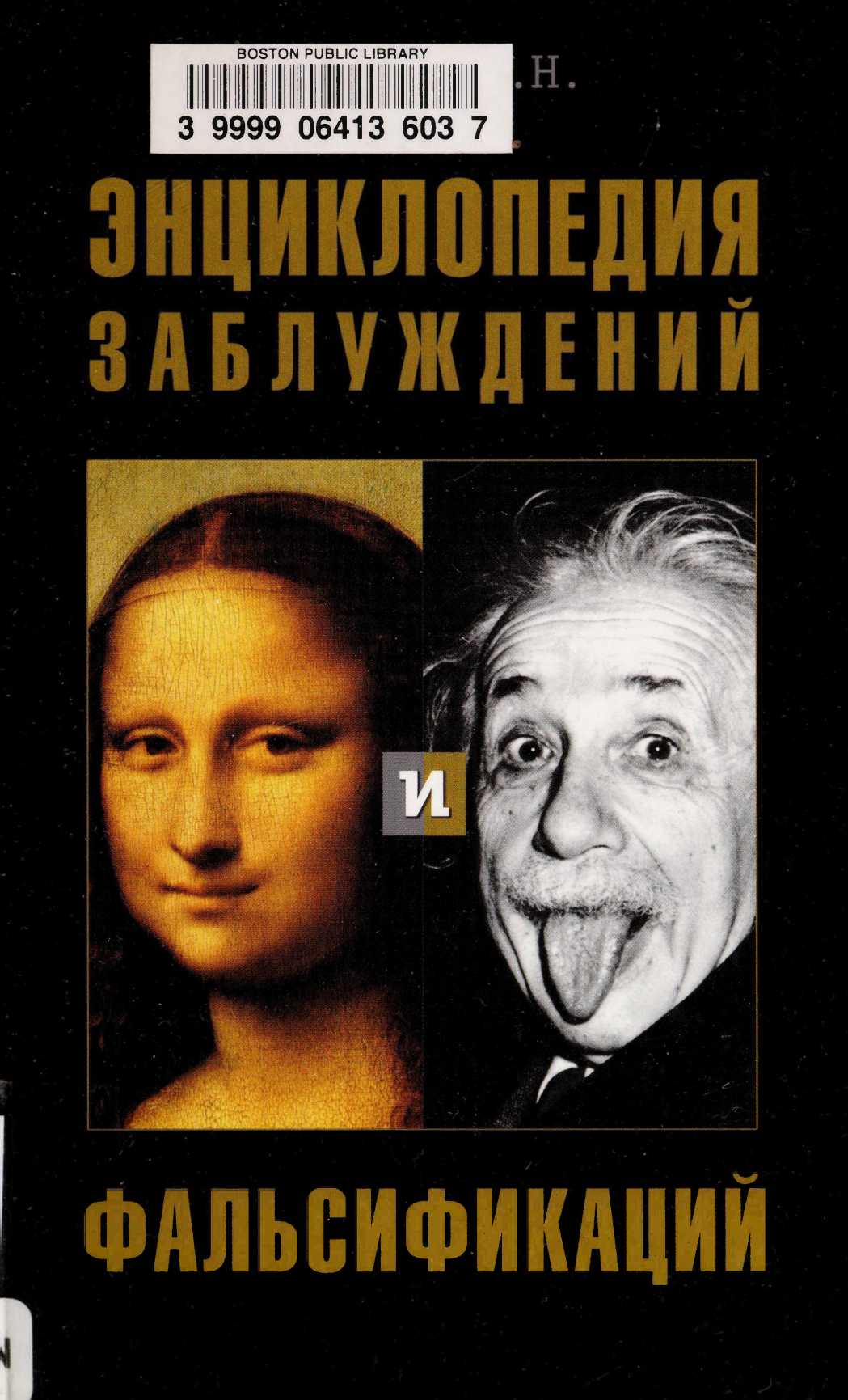Книга О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ. Воспоминания и мысли - Николай Николаевич Вильмонт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В лихорадочных поисках пропавшего участвовала вся наша колония. Даже философ Асмус прошелся по аллейке, критически присматриваясь к отцветшим кустам акации. Приняли участие в поисках и Борис Леонидович с Зинаидой Николаевной. Я застал их у колодца. Вооруженная багром, Зинаида Николаевна безостановочно баламутила колодезную воду, неотрывно глядя на что-то горячо говорившего ей Бориса Леонидовича. Я не мог удержаться от смеха, тем более что — в отличие от них — все уже знал о потерянном и вновь обретенном Алеше. Пастернак тоже разразился помолодевшим счастливым смехом, ничуть не разделяя смущения своей собеседницы.
Эта сцена разыгралась накануне нашего отъезда {-168-} в Москву. Я отбывал первым. Позднее, уже после смерти поэта, я узнал от Зинаиды Николаевны, что большой разговор между нею и Пастернаком, приблизивший, но еще не приведший к развязке дальнейших событий, состоялся в вагоне поезда Киев — Москва.
А пока — несколько слов об Ирпене. Эта дачная местность в двадцати трех километрах от Киева не поражала особыми красотами природы. Река Ирпень здесь протекала вдоль плоских берегов, лишенных всякой древесной тени. Смешанный лес с преобладанием хвои казался мне худосочным. По лесным тропинкам пробегали жирные удоды и подвижно стлались ужи или гадюки (и в тех и в других не было недостатка). По обнаженным высоким стволам сосен кружили белки, опасливо поглядывая на довольно редко встречавшихся пешеходов. Повсюду тянулась, вся в паутинах, колючая проволока, окаймлявшая «запретную зону» не совсем понятного для нас назначения: до польской границы было еще далеко. В перелеске понуро паслись волы с их коровьими головами на мощных телах, своекорыстно покалеченных человеком. Было тоскливо и знойно.
Поэтичность сообщали Ирпеню стихи Пастернака («Годами когда-нибудь в зале концертной // Мне Брамса сыграют — тоской изойду…» и другие), а также чудесная игра Нейгауза. Он снимал (помимо дачи) комнату с роялем на пару с пианистом В. А. Архангельским, где урывками, считаясь с неуемными потребностями своего трудолюбивого напарника, готовился к концертам в киевском бывшем Купеческом саду и к предстоящему сезону.
По приглашению Генриха Густавовича я часто присутствовал на этих кратких репетициях, характерных уже тем, что на пюпитре только однажды стояла открытая нотная тетрадь — седьмая соната Скрябина, одно {-169-} место которой, как мне пояснил Нейгауз, не раз его затрудняло. Но, прежде чем исполнить ее, он все-таки захлопнул нотную тетрадь и, сыграв сонату, с удовлетворением заявил, что на сей раз не упустил ни одной ноты. Нейгауз много играл из Баха, Бетховена и Брамса. Со всегда его отличавшей добротой или какой-то широкой «всесимпатией» он нередко посвящал меня, профана, в некоторые особенности исполнявшихся им вещей. Кое-что из сказанного тогда удержалось в памяти.
Так, сыграв фугу E-dur из второго тома «Хорошо темперированного клавира», он резко обернулся и спросил меня тоном экзаменатора:
— Ну, как?
— По-моему, превосходно, — пробормотал я.
— Вот вы сказали «превосходно», а ведь совсем превосходно это вообще не может прозвучать. Ведь это — хоральная фуга , своего рода «Chorus mysticus» в финале «Фауста». Правда, сам Гёте говорил, что писал иные песни и сцены «Фауста» в фантастическом расчете на «соавторство» с Моцартом. In abstracto, это, конечно, было бы чудесно! Но не более возможно, чем «соавторство» с Бахом. Обе эти возможности были схоронены в разных точках земного шара. А место, где покоится прах Моцарта, даже по сей день неизвестно безбожному человечеству! Ни его вдова, госпожа Констанция, ни ее второй супруг, господин фон Риссен (впрочем, горячий почитатель Моцарта и первый его биограф), об этом не позаботились.
Но я ведь только хотел вам сказать, что фортепьяно никак не приспособлено исполнять хоралы. Этот инструмент безнадежно страдает эмфиземой легких, у него короткое дыхание. Это каждому известно, если он музыкант: не поет, да и только! Как я когда-то бранил, и про себя и вслух, старика Баха за то, что он доверил исполнение своей бесподобной фуги убогому на этот счет фортепьяно, а не органу или хотя бы фисгармонии, {-170-} где звуки не гаснут так отвратительно быстро! Но ведь Бах нарочито написал свою фугу для того, чтобы научить пианиста певучести, и уж конечно знал все, что известно и мне, грешному. Так что тут поделаешь! Учись, дурак, певучести! Хоть об стену бейся головой! Последнее, кстати, гораздо легче, чем биться над клавишами и педалью. Я даже пробовал сыграть хоральную фугу быстрее, чем положено, — так, чтобы звуки не успевали так быстро гаснуть. Результат был не удачнее, чем в случае с наказуемым каторжанином из «Мертвого дома», который предпочел не пройти, а пробежать по «зеленой улице». «Нет, лучше, ваше благородие, уж по закону!» — как-то сказал я себе, то есть в предписанном темпе: фуга в таком убыстренном — воинственном , а не таинственном (mysticus!) — воплощении мне показалась донельзя противной.
Конечно, перескочить через препятствия, заложенные в самом инструменте, невозможно. Но я упорно стремился к невозможному , и только таким путем добился возможного , то есть сносного (в смысле певучести) звучания, которое все же позволяет — несмотря на все недостатки этого ящика — с известным наслаждением слушать фортепьянного Баха. Вот ведь сказали же и вы: «Превосходно!»
Последний аргумент был для меня, конечно, всего менее убедителен.
В другой раз, сыграв сонату Бетховена As-dur, opus 110, Генрих Густавович заговорил о «сугубо лирической» природе бетховенской музыки и о созданном Бетховеном «чисто музыкальном» юморе, позволяющем — именно благодаря «всеобъемлющему его лиризму»! — вовлекать в сферу возвышенного (des Erhabenen) образцы самого «низкого» музыкального пошиба, к примеру, вот эту венскую уличную мелодийку: «Ich bin liederlich, du bist liederlich! Sind wir beide doch so widerlich!» — немецкая чепуховина, которую он безо всяких {-171-} натяжек увязал не только с фугой, но и с обоими ариозо, ей ассистирующими. Нейгауз несколько раз повторял соответствующее место сонаты, добиваясь от меня хотя бы приблизительного музыкального ее уразумения. И тут же вскользь заметил, что он всегда ощущал «божественный юмор Бетховена» проявлением некой далеко идущей демократизации музыкальной культуры , наметившейся уже у Моцарта. Но у того юмор не столько лиричен, сколько, скорее, драматичен — в духе его оперного стиля, где юмористические point’ы в большей мере зависят от мимической игры актеров, чем от чисто музыкальной их подачи.
Возьмемте ту же финальную часть Пятого концерта Бетховена. Ей предшествует почти молитвенное звучание в конце adagio. Но оно не переходит в религиозный экстаз, а скорее уж в ликующий разгул