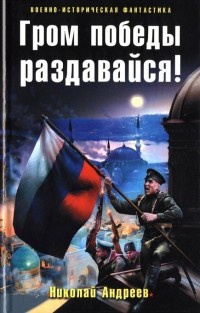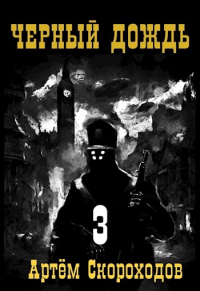Книга Белый, красный, черный, серый - Ирина Батакова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я послушно смотрю. Одигитрия похожа на переодетого женщиной мужчину – тяжелый подбородок, недовольно сжатый рот, длинный нос, маленькие, узко посаженные глазки с выражением гневного недоумения. У младенца Иисуса наоборот – лицо идеализированное и без всякого выражения.
– А почему она такая… сердитая? – спрашиваю осторожно.
Отец Григорий засопел.
– Потому что… понимать надо!
Разочарованный, он порывается снова завернуть икону с глаз моих долой.
– Наверное, она злится на таких, как я, тупиц, – говорю.
Он смягчается.
– Да уж, повидала она всякого на своем веку. Ну, и записей было по ее лику столько, что впору тут разозлиться. А младенец так вообще новодел, полностью переписан в 19 веке. Видишь, как стили отличаются? – он вздыхает и нехотя признает: – От оригинала тут, конечно, мало что осталось. Считай, одна доска и фон.
– Так на фоне ж ничего нет, пусто?
– Красочный слой потерялся со временем – и в тех местах, которые шли под оклад, не подновлялся. Подновлялись только лики и руки, что на виду.
Он минуту молчит, затем склоняется над иконой и, перекрестясь, целует ее.
– И все-таки это она. Настоящая. Она там есть, душа ее живая, дух ее чудотворный. Я чувствую… – шепчет. – Она как сама наша матушка-Россия. Вот здесь, под окладом, – он проводит рукой по фону, – здесь находимся мы, народ ее невидимый, почти утраченные, зато исконные краски. А здесь, где прорези в окладе, – показывает на лики и руки, – видная часть, красочная, но фальшивая – это как наша власть. Которая вроде как от Бога, да только лик Его утерян и вместо него – новодел.
– Вы сделали революцию в методах досудебного расследования! – воскликнул как-то Рыбкин. – Поразительно, что наши службы до сих пор пользуются «сывороткой правды», это же какой-то пещерный век, все знают, что правды там – как в пьяной болтовне дурака, и все равно в любой непонятной ситуации фигачат в ноздрю подследственному это дерьмо…
– Старинный ритуал, – сказал Леднев. – Зрелищный. Народ любит такое. Раз в неделю им телевизор показывает что-то интересное – не сводки с полей, а целого государственного преступника, и вот представьте: этот страшный черт, схваченный «за ноздрю», вдруг превращается в своего парня, рвет на себе рубаху и режет правду-матку, роняя слюни. Это огромный спектр зрительских переживаний – от эмпатии (он такой же простой смертный, как и мы) – до злорадства (и поделом, а то возомнил о себе). Тут тебе и катарсис, и удовлетворенное чувство справедливости.
– Что такое катарсис?
– Эээ… Не обращайте… Я к тому, что как телешоу наш РЕВ и в подметки не годится «сыворотке правды».
– Ну, да, – подумав, рассмеялся Рыбкин. – Какие-то невидимые проводки, электроды, нанозонды, пациент лежит в камере сенсорной депривации и молчит, компьютер что-то пишет. Непонятно!
– Вот-вот. Такое по телевизору не покажешь – скука.
– Но вы же не для шоу РЕВ изобрели! У вас же были совсем другие цели.
– Да не было у меня никаких целей. Когда я придумывал РЕВ… Знаете ли, я не хотел такой судьбы для него. Допросы, враги, средство «абсолютной правды» и все такое… Я вообще тогда не задумывался над вопросом «зачем», я даже не знал еще «как» – меня захватила идея и все, это как инстинкт, ты просто подчиняешься…
– О, это прямо по Гауссу: «Мои результаты мне давно известны, я только не знаю, как я к ним приду».
– Мне нравится другое его высказывание: «Не следует путать то, что нам кажется невероятным и неестественным, с абсолютно невозможным».
– И вам поистине удалось сделать что-то невероятное! – восторженно подхватил Рыбкин.
– Нам, – поправил Леднев. – Всем нам. РЕВ – это заслуга всей нашей лаборатории. И знаете, что я думаю, Иван Семенович. Вот они там, наверху, нашли ему применение. Цель. Не слишком благородную, да? Пусть. А все-таки – у нас получился не самый бесчеловечный из всех методов пытки. Может быть, я утешаю себя… Оправдываю… Но смотрите. Ведь наш РЕВ – это удлинение жизни – на тот отрезок, в который мы погружаем человека. И чем глубже ретроспектива – тем больше жизни мы дарим этому несчастному. Тут ведь главное и самое тонкое – задать ему нужную глубину, не ошибиться с логосом, который запустит воспоминание. Представьте, что его хотят отправить на месяц назад, на год, а вместо этого по ошибке отправляют в самое детство – и выходит, человек еще раз проживает свою жизнь, целую жизнь! Не знаю, как вы, а я совсем не против, чтобы со мной так ошиблись.
– Зачем бы это понадобилось? – несколько испуганно спросил Рыбкин. – Я не представляю себя, а тем более вас, профессор, в роли государственного преступника.
– От сумы и от тюрьмы, как говорится… Но чисто гипотетически? А?
Рыбкин задумался.
– Не знаю. В моем детстве не было ничего интересного. Не уверен, что хотел бы туда вернуться.
– Как? – изумился Леднев. – Так-таки ничего? И даже безумной домашней лаборатории? А взорвать квартиру? Прожечь одежду кислотой? Разрезать на кухонном столе лягушку, к ужасу бабушки?
…Которая, кстати говоря, на том самом столе накрутила километры мясного фарша… «Вот я не понимаю, – бунтовал юный естествоиспытатель Дима Леднев. – Лягушку для науки не убей, а корову тупо для котлет – пожалуйста». Бабушка махала руками: «Я никого не убивала!» – «А мышей на даче? А дрозда кто ухлопал из рогатки? А еще бабушка называется, – ласково подначивал он, – не бабушка, а хулиганка какая-то». – «Эти твои дрозды мне все черешни поклевали! Вредители!». Дима иронично кивал: «Вот-вот. Цель оправдывает средства. И этот Макиавелли в юбке запрещает мне препарировать земноводных».
– У меня не было бабушки, – сказал Рыбкин. – Я рос в спец-интернате. В Детском Городе Особого Значения – для научно одаренных детей.
– Да-да, – опомнился Леднев. – Я все время забываю, как вы молоды, мой друг.
Рыбкин покраснел, уязвленный его замечанием.
– Не обижайтесь, дорогой Иван Семенович. Я к тому, что мы с вами из разных миров. Из разных эпох! А ведь я совсем не чувствую этой разницы, работая с вами. Да что там… Вы знаете мое к вам отношение. Но когда до меня вдруг доходит, сколько всего нас разделяет… Это же бездна! Просто бездна, – Леднев помолчал. – Я так долго живу. Так долго.
– И это счастье для всех нас, для нашей медицины! – воскликнул Рыбкин. – А вы так говорите, как будто сожалеете. Позвольте мне вам не поверить! Минуту назад вы сами признались, что хотели бы прожить свою жизнь заново, с детства.
– О, да, – мечтательно улыбнулся Леднев. – Года с этак… восьмидесятого. Когда мне было десять. Самое счастливое время. Лето. Июль. Олимпиада. По радио сообщают, что мы запустили в космос Союз-37…
– Вы до сих пор название помните?
– О! Я помню все: номер экспедиции, имена стартового экипажа, дату запуска – 23 июля. Я вам больше скажу – это не Союз-37 держится в моей памяти о детстве, это моя память о детстве держится на Союзе-37, – Леднев усмехнулся. – Знаете, забавно. Я сейчас подумал: а ведь это именно оно – то самое ключевое слово, тот логос, который меня бы точно вернул в мой июль восьмидесятого.