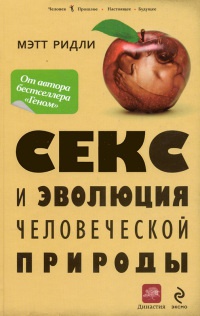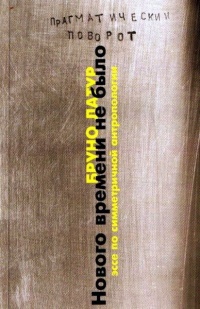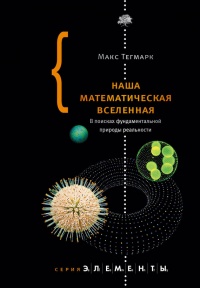Книга Политики природы. Как привить наукам демократию - Брюно Латур
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Согласно новой Конституции, то, что было эсктериоризировано, может подать апелляцию и снова постучаться в дверь коллектива и настоять, чтобы его приняли в расчет, разумеется, при условии составления нового перечня допущенных существ, новых переговоров, нового определения внешней среды. Внешняя среда больше не является неподвижной, инертной, она больше не является ни апелляционным судом, ни запасным вариантом, ни разгрузкой – а объектом внятной процедуры экстериоризации (118).
Принимая во внимание последовательность этапов, мы теперь понимаем, почему никак не могли использовать различие фактов и ценностей и насколько правильно мы поступили, отказавшись от него, истратив на это немало сил. Все наши требования имеют форму императива. Другими словами, все они включают в себя вопрос, что мы должны делать. Невозможно поставить вопрос о нравственности после того, как миропорядок уже сложился. Вопрос о том, что должно быть, как мы теперь понимаем, не просто один из моментов этого процесса, а равен ему по объему. Поэтому мошенничество заключается в том, что его хотят ограничить всего лишь одним из этапов. Соответственно, знаменитый вопрос об установлении фактов не сводится к тому или иному этапу, а задается постоянно. Озадаченность столь же важна для решения этого вопроса, как и весомость для тех, кто берется о ней судить, как и совместимость новых элементов со старыми, необходимых для институционализации и наделяющих их сущностью• с определенными контурами. Этим объясняется недоразумение, которое выражалось в том, что факты сводились только к одному из этапов данного процесса.
Если бы мы хотели любой ценой сохранить разделение между тем, что есть, и тем, что должно быть, мы могли бы сказать, что необходимо дважды пройти все этапы, задавая два отдельных вопроса одним и тем же пропозициям, соответствующим каждому их четырех требований: что за процедуры мы должны придерживаться, ведя дискуссию? Каков ее предварительный результат? За ложным различием фактов и ценностей скрывался важнейший вопрос о качестве процедуры, которую необходимо соблюдать, и о наброске ее траектории. Этот вопрос теперь не имеет никакого отношения к невразумительному спору между (политической) эпистемологией и этикой (119).
Читатели, возможно, заметят, что на самом деле мы заменили различие фактов и ценностей на другое, не менее отчетливое и носящее абсолютный характер, но в то же время превосходящее его и трансверсальное. Мы не говорим о «челноке» между принятием в расчет• и упорядочением•, а о куда более существенной разнице между отказом от построения общего мира и замедлении, которое делает обязательным соблюдение процессуальных норм, due process, которое мы решили назвать репрезентацией•. Мы без колебаний отводим важнейшую нормативную роль этому резкому противопоставлению. Именно из этого источника мы будем черпать силы, чтобы негодовать и сопротивляться. «Представлять вместо того, чтобы обходить стороной» – таков девиз политической экологии. В этом, как нам кажется, можно найти куда более неистощимый и прозрачный исток нравственности, чем в том тщетном возмущении, с которым пытались спасти ценности от осквернения фактами и факты – от осквернения ценностями.
В начале этой главы мы хотели получить реальность, экстериорность и единство природы при соблюдении процессуальных норм. Доведя эту работу до конца, мы знаем, что в этом нет ничего невозможного. Мы должны просто изменить наше определение экстериорности, потому что социальное имеет совершенно иную «окружающую среду», чем коллектив: первое является окончательным и сделано из определенного материала, тогда как второе – предварительным и получено в результате ясной процедуры экстериоризации. Как только член сообщества, существующего в соответствии со старой Конституцией, выглядывал наружу, он решал, что природа состоит из объектов, безразличных к его страстям, и он должен либо подчиниться им, либо навсегда порвать с ними. Когда мы смотрим вовне, мы видим некую совокупность, которую только предстоит сформировать из отверженных (людей и нелюдéй), которыми мы решили принципиально не интересоваться, а также подающих апелляцию (людей и нелюдéй), которые, каждый по-своему, настаивают на том, чтобы стать частью нашей республики. Не остается ничего ни от старой метафизики природы, ни от древнего мифа о Пещере, хотя все существенное для жизни общества сохраняется: нелю́ди, выстроенные в когорты; экстериорность, произведенная в соответствии с правилами, а не тайком; единство развивающегося коллектива, вставшего на путь исследования, к которым стоит добавить дискуссионные процедуры, которые мы намерены прояснить.
Где же теперь находится экстериоризированная природа? Так вот же она – подвергнутая тщательной натурализации, то есть социализированная внутри коллектива в состоянии экспансии. Настало время найти ей достойное место, определив ей постоянное место жительства и снабдив подобающим девизом, но не тем, что выдвигали первые демократии – «Нет налогам без представительства!», а новой максимой – «Нет реальности без репрезентации!»
У метафизики дурная репутация. Политики не доверяют ей почти так же, как ученые. Умозрительные построения, которыми занимаются философы, уединяясь в своих кабинетах и воображая при этом, что они способны понять, как устроен мир, – именно этого теперь стараются избегать все серьезные люди. Но это презрение никак не помогало понять политическую экологию. Если мы воздерживаемся от занятий метафизикой, то это значит, что мы верим в уже известную нам модель мироустройства: в ней есть общая для всех природа, а также второстепенные различия, которые касаются каждого из нас как носителя определенной культуры или как частного лица. Если бы это было действительно так, то тем, кто должен определять общее благо•, не пришлось бы ломать голову, так как большая часть их работы была бы выполнена: объединенный, объединяющий, универсальный мир в таком случае уже существовал бы. Им осталось бы только привести в порядок разнообразные мнения, убеждения и точки зрения – задача, разумеется, весьма деликатная, но принципиально не такая сложная, поскольку это разнообразие не касается ничего существенного, что могло бы затронуть сущность вещей, которая хранится отдельно в холодильном отделении внешней реальности. Если мы понимаем природу подобным образом, разделяя вопрос об общем мире• и вопрос об общем благе•, то, как мы могли убедиться в предыдущих главах, мы приходим к наиболее политизированной разновидности метафизики, а именно к метафизике природы.
Экологические кризисы, как мы теперь понимаем, нисколько не поколебали эту метафизику природы•. Напротив, осмыслявшие их теоретики попытались не только отстоять эти модернистские представления о природе, но и расширить ее полномочия, наделив еще более важной функцией, приведшей к параличу общественной жизни. Усилия эти оказались тщетными, так как они были направлены на то, чтобы погасить пламя свободы, которое рассчитывали разжечь, всячески принижая человека и апеллируя к непреложной истине природного порядка. Пропасть между теорией и практикой активистов является объяснением того, почему вклад экологии в философию политики и науки был до сих пор столь скромен. Эта замедленная реакция кажется тем более странной с учетом того, что каждый кризис так или иначе затрагивал научные дисциплины и исследователей со всеми их неопределенностями: без специалистов по атмосфере, кто узнал бы о глобальном потеплении? Без биохимиков, кто обнаружил бы прионы? Без специалистов по легочным заболеваниям и эпидемиологов, кто смог бы установить связь между асбестом и раком легких? Наследие Пещеры давит тяжким грузом, именно этим можно объяснить тот факт, что мы так долго игнорировали политическую новизну экологии, вызывающую конституционный кризис всякой объективности.