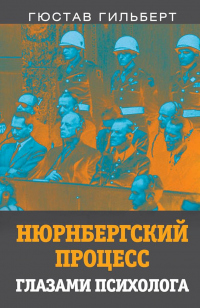Книга Нюрнбергский дневник - Густав Марк Гилберт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
26–27 января. Тюрьма. Выходные дни
Камера Папена.
— Сегодня я во время прогулки на тюремном дворе случайно оказался вместе с Розенбергом. Обычно я с ним не разговариваю, поскольку у меня с ним не может быть ничего общего, но тут пришлось. В разговоре мы затронули тему представленных вчера французами доказательств — пыток и других ужасов. И он мне невинно заявляет: «Просто понять не могу, что заставило немцев творить такое!» И, знаете, что я ему на это ответил? «Зато я прекрасно понимаю! Вы своей нацистской философией, своим язычеством и нападками на церковь и мораль разрушили все этические масштабы! Неудивительно, что это выродилось в такое варварство!»
Камера Риббентропа. Я представил Риббентропу нового судебного эксперта-психолога, майора Гольдензона. Первым делом Риббентроп принялся расспрашивать майора о его послужном списке, потом постепенно перешел к изложению своего невнятного, неустойчивого и путаного отношения к Гитлеру.
Риббентроп поведал, как после того как разразилась Первая мировая война, ему пришлось возвращаться в Германию из Канады в угольном контейнере парохода, как он стал офицером, как после войны женился на наследнице производителя шампанских вин. Ностальгическую грусть бывшего министра иностранных дел Германии вызывали воспоминания о том, как некогда ему пришлось вращаться в космополитических светских кругах, весной встречавшихся в Париже, зиму проводивших в Санкт-Морице, а лето — на французской Ривьере или в Биарритце. Лишь в 1932 году его захватила политика — тогда в связи с инфляцией и безработицей деловая жизнь практически замерла. Он привел и свои другие мотивы — кроме высокомерия, тщеславия и карьеризма. Дело в том, что благодаря Гитлеру Риббентроп мог и дальше заниматься торговлей алкогольными напитками даже будучи политиканом, после того как он представил себя Гитлеру как сторонник «разумного капитализма».
В последний раз Риббентроп видел Гитлера 23 апреля 1945 года. Когда я спросил его, не заметил ли он каких-либо внешних признаков того, что Гитлер готовился покончить жизнь самоубийством, Риббентроп ответил, что уже тогда он был почти уверен, что Гитлер намеревается умереть в Берлине.
— Нет, напрямую ничего такого заявлено не было, но это было ясно каждому. Впервые он вслух высказал возможность поражения. Еще за полтора месяца до этого он утверждал, что «мы хоть с незначительным перевесом, но победим». До этого он ни единым словом не давал понять, что мы можем проиграть эту войну. Но в этот раз мне было позволено спросить, как мне быть в случае капитуляции. Он ответил, что я должен предпринять попытку «не ссориться с Англией». Ссориться с Англией он никогда не хотел.
Гитлер для Риббентропа по-прежнему оставался загадкой, и свою растерянность и непонимание (растерянность и непонимание разочаровавшегося оппортуниста, который не в состоянии ни логически оценить свое положение, ни осознать свою вину) он выразил крайне бездарно: «Я не могу этого понять. Знаете, он же был вегетарианцем. Поедание животных вызывало у него отвращение, и всех, кто ел мясо, называл трупоедами. Я даже вынужден был скрывать от него, что иногда люблю побродить с ружьишком в лесу. Такое он никогда бы не одобрил. Ну как такой человек мог отдать приказ на проведение массовых убийств?»
По мнению Риббентропа, перед самым концом Гитлер окончательно зациклился на своих идеях. Один его глаз после покушения плохо видел, и он слегка косил. В последние годы его лицо и руки отличала мертвенная бледность, временами казалось, что в нем ни капли крови не осталось. Его донимала бессонница, и жил он лишь на уколах, которые ему делал доктор Морель.
Объясняя причины того, что он не решался перечить Гитлеру, Риббентроп в качестве примера привел эпизод 1940 года, когда он стал объектом безудержной ярости фюрера.
— Знаете, я пережил нечто странное, когда в 1940 году отважился возразить Гитлеру. С тех пор я уже не мог решиться ни на какие возражения. Я уже и не припомню, что так возмутило его, по-видимому, какая-то мелочь. Я тогда отчаянно возражал ему и грозил отставкой. Он покраснел, как рак, и взревел на меня, а после у него случился приступ. Он, пошатываясь, сидел в своем кресле и повторял мне: «Вот видите, до чего вы меня довели! Вы меня до безумия довели! У меня сейчас такой звон в ушах, мне так нехорошо! А если сейчас со мной случится удар? Вы что же, хотите погубить Германию? Я единственный, кто может сейчас в эти опасные времена вести Германию, а вы стремитесь погубить ее, когда доводите меня до такого состояния!» И я пообещал ему никогда впредь не возражать ему и не грозить отставкой.
Камера Гесса. Гесс до сих пор апатичен, замкнут и несколько загадочен… Что до процесса, заявил он, то он не очень внимательно слушал, потому что французы так много говорили и так часто повторяли одно и то же. Он признал, что помнит не все, но другие сказали, что почти все было повторением уже известного. Гесс, по его словам, до сих пор не разобрался, что же послужило причиной этих позорных деяний. Из его поведения я заключил, что его нынешняя отстраненность и отдельные признаки несомненно подлинной амнезии отчасти вызваны крушением его идеологии, служившей опорой его эго. Это и обусловило постановку Гесса перед неприемлемым для него выбором — либо взять на себя часть вины нацистов, либо полностью покориться фюреру. Вероятно, он и впредь будет истерически бежать от действительности, что чревато труднопредсказуемыми функциональными расстройствами (либо амнезия, либо паранойя, либо и то, и другое одновременно).
2 февраля. «Верховный вдохновитель борьбы против коммунистов»
Камера Геринга. Мы с Гольдензоном посетили его сразу же после обеда. Геринг был по своему обыкновению многословен и не знал удержу. Теперь, когда французы завершили предъявление обвинения, он ожидал, что будет выдвинуто русскими, которые — как он ожидал — в особенности негативно настроены против него.
Геринг не сомневался, что русским есть за что ополчиться на него — ведь он был и остается ярым противником большевизма.
— О, что до этого, Розенберг оспорит этот титул, — попытался не согласиться я. Но Геринг упорно стоял на том, что именно ему принадлежит репутация «верховного вдохновителя борьбы против коммунистов», поскольку он подкреплял его делами, не ограничиваясь пустыми словами. Он понимал и то, что многое наделал из того, чего русские ему ни за что не простят. С явным удовольствием Геринг ударился в воспоминания о том, как он сразу же после захвата власти Гитлером начал преследования коммунистов.
— Да я, будучи главой прусской полиции, тысячами их запирал под замок! Именно для коммунистов и были задуманы концлагеря — там их можно было держать под контролем. Я перехватывал денежки, которые они отсюда перегоняли испанским лоялистам, а потом не позволил им отправить морем оружие в Барселону — вот так-то! Такого мне они никогда не простят!
И будто мальчишка, подложивший кнопки на стул учителю, залился злорадным смехом.
— Они уже и деньги за оружие для испанских лоялистов перевели в нейтральную страну. Но у меня были доверенные лица среди портовых грузчиков, так что я отправил в Испанию черепицу, а поверх ее положил чуточку оружия. Ха-ха! Этого они мне не простят!