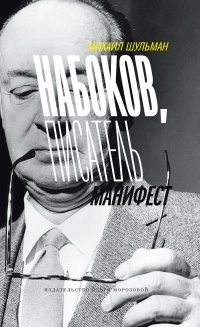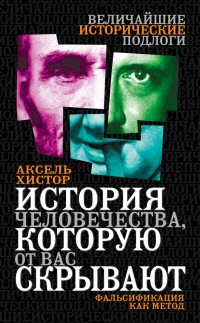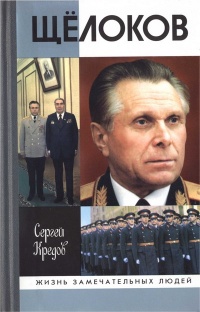Книга Врубель - Вера Домитеева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Доводы в пользу неожиданной поездки: едет он туда, во-первых, потому, что за лето скопил почти шесть с половиной сотен; во-вторых, у него заказ — четыре большие иконы, и за каждую ему заплатят по 300 рублей, только исполнить их нужно в том именно стиле, каким особенно прославлены творения в древних храмах Равенны и Венеции. «Наконец, потому, что в Венеции зимой день и свет гораздо больше и климат лучше, чем в Петербурге».
До крайности резонно.
А доучиться в Академии художеств? Ведь ни положенного набора медалей, ни завершающей конкурсной картины, ни звания, ни документа, подтверждающего, что художник. Забыто. Всё забыто, ибо Михаил Врубель постановил вообще начать новую жизнь.
ВЕНЕЦИАНСКИЙ АЛЬБОМ
Перед Венецией он ненадолго заехал к родным.
«На свой туалет он теперь не обращает никакого внимания! — взахлеб докладывала удивительные новости младшая сестра Лиля старшей Анне. — Носит, знаешь, такую шляпу с широкими полями не первой молодости, вязаные черные перчатки, самое простое драповое пальто и какую-то особенную рабочую курточку, и хотя он обзавелся теперь новым сюртуком, но все-таки никто не узнал бы в нем прежнего Мишу, любящего по-модному одеться».
Наглядное намерение жить в скромном трудолюбии, отринув суетное щегольство, еще разительнее выявилось за столом. К изумлению семьи, оказалось, что нынешний Михаил Врубель «терпеть не может вина и разных пикантных закусок, а любит самую здоровую пишу, например, пьет кипяченое молоко».
Какая нежданная радость для родителей! Но порадоваться за него и вместе с ним как-то не удавалось. Беседы с сыном не клеились.
Старания Елизаветы Христиановны расшевелить Михаила разговором о хорошем начале его профессиональных трудов, о его первом значительном гонораре, вслед за чем «посыплются на него и заказы, а с ними и слава и прочее», успеха не имели. Михаил в ответ был вежлив и суховат.
Попытки Александра Михайловича наедине, всерьез и по-мужски, обсудить сыновние планы заканчивались еще неудачнее, завершаясь взаимным недовольством. Отцу очень хотелось знать: чем объясняется у сына внезапное забвение верных многолетних петербургских друзей, горячая и отчего-то тоже вмиг погасшая привязанность к новому окружению? И что это была за странная идея на лето уехать в деревню, к матери Валентина Серова? И почему сын перед самым окончанием учебы вдруг решил бросить столь ценимую им прежде академию? И как он думает без нее пробиваться, чем себя обеспечивать? Как видит цель своих живописных трудов и как вообще он смотрит на современное искусство?
А сыну очень не хотелось отвечать. Отмалчивался, жаловался на мигрени (они впрямь часто его мучили и в Петербурге, и в Киеве), вяло ронял общие фразы.
Чуть разговорчивее он был с Лилей. Жадное любопытство бравшей уроки пения семнадцатилетней вокалистки к брату-художнику вдохновляло больше, чем прописи отцовских рекомендаций. В итоге семейство узнало, что ставших вроде бы почти родными Валуевых Михаил, да, совсем забросил, так уж вышло. Но с Папмелями распрощался вполне дружески. А увлечение идеализмом прекрасных дочерей мадам Симонович и восхищение энергичной духовностью ее сестры вплоть до возникшей было мысли помогать ей в оперном просвещении народа — все это чересчур наивно. Высота помыслов, а в сущности уныло, однообразно до оскомины. Примерно так и с академией — закиснешь, переучившись в ней. Тем более что знатоки находят его мастерство достаточно зрелым, и Прахов уже предложил работать во Владимирском соборе, где росписи начнутся по весне. И сам он уже ощутил свои возможности, и дорожит этим, и ни в каких дипломах не нуждается, — наличие таланта удостоверит его живопись.
На фоне меланхолий, уже накопивших ученику академии массу разочарованно брошенных работ, оптимистичную самоуверенность Михаила стоило признать переменой положительной. Хотелось верить, что сын прав. Только очень обидело, что впервые он, навестив родных, не привез показать «хоть бы какого-нибудь» своего рисунка да и дома впервые никого, ничего не рисовал. То ли демонстративно разграничил искусство и родственный долг, то ли попросту маялся.
«Расположение духа у него как бы скучающее», — резюмировал отец после отъезда сына, не прогостившего и трех дней.
Еще бы не скучать, когда ни словом, ни намеком нельзя обмолвиться о том, что разрывает. На память Михаил забрал у родителей недавно доставленный из Оренбурга фотопортрет старшей сестры. Лишь ей, тихой и верной, никогда ни в чем не упрекавшей, он мог хотя бы приоткрыть случившийся в судьбе переворот — явление «настоящих целей жизни».
И Анна, полтора года не получавшая от брата писем, прочла:
— Один чудесный человек (ах, Аня, какие бывают люди!) сказал мне: «Вы слишком много думаете о себе; это и вам мешает жить, и огорчает тех, которых вы думаете, что любите, а на самом деле заслоняете все собой в разных театральных позах»… Нет, проще да и еще вроде: «любовь должна быть деятельна и самоотверженна». Все это простое, а для меня до того показалось ново…
Интересное письмо. Особенно впечатляет речь «чудесного человека», говорящего с художником на языке как бы умышленно упрощенном, как с малышом. Согласное покаяние тоже звучит почти по-детски:
— В эти полтора года я сделал много ничтожного и негодного и вижу с горечью, сколько надо работать над собой.
Но Врубель не ребенок: не увлекаются дети Кантом, не упиваются изощренностью мастерства. Что же воодушевило принять этот тон? Мы здесь не про любовь и, упаси боже, не про глубины подсознания. Нас тут интересует специфичный импульс к трудовым подвигам. Подобное уже встречалось, когда надменный Врубель внимал Чистякову и, впав в аскезу, поражал фанатичным усердием. Кстати, регистр окрыляющих символов тот же: тогда — художественный аристократизм, теперь — беззаветное рыцарское служение. Врубелевские девизы на щите врожденной обособленности. Сложно ему жилось: она ведь была нелегка, ноша невесть откуда бравшегося в эфирно нежной душе каменного, не сдвинешь, самостояния. Проблема крайне неуживчивых личных субстанций. Понять это со стороны-то не выходит, а вот представьте, если изнутри. Естественно, будут чудачества, позерство (упрек, что «в разных театральных позах», брошен точно) и назойливый «головной сумбур», мешавший спокойно работать, понуждавший непременно объяснять себе себя самого. Жаждалось простоты. Идеал верного стойкого рыцаря всё прояснял и всё оправдывал. Тесня угрюмого философа, освобождал бодрого живописца:
— Горечь прочь, и скорей за дело. Дней через пять я буду в Венеции… чуть не сегодня только начинаю порядочную и стоящую внимания жизнь. Немножко фразисто! Хорошо, что говорю это не седой и измученный, а полный силы для осуществления фразы.
Словно во избежание смущавшей Врубеля патетики его венецианская поездка началась прямо-таки анекдотом.
В Венецию Врубель поехал не один. Выдвинутая Праховым идея отправить вместе с ним выпускника Киевской рисовальной школы пришлась по душе как Мурашко, организатору школьной учебы, так и его земляку (оба из Глухова) Ивану Николаевичу Терещенко, который, будучи миллионером, школу субсидировал, а в качестве молодого, университетски образованного знатока искусства всяко способствовал развитию учеников. Выбран был хорошо справлявшийся при реставрации с росписью по эскизам Врубеля, способный, исполнительный Самуил Гайдук. Теперь Гайдуку поручалось под опекой Врубеля исполнить для школы серию образцовых натурных этюдов и ряд копий с шедевров венецианской живописи. Кроме того, шутил Прахов, Гайдук будет полезен, «чтобы Врубель не заскучал в Венеции от одиночества». Это всех, знавших хмурый нрав Гайдука, немало веселило. Дальше было еще смешнее.