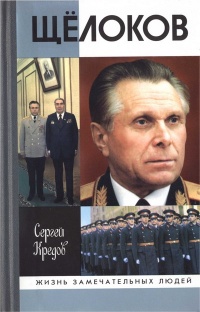Книга Хорошо посидели! - Даниил Аль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Жизнь наша в новой камере после следственных казематов казалась просто замечательной. Камера просторная, светлая. Воздух свежий. Окна, отворявшиеся внутрь, открыты целыми днями настежь. На дворе теплый и солнечный июль. В камере много книг. Сидя в следственных камерах, мы и не знали, что книги Маркса и Ленина (ну и тем более, если бы кто захотел, — Сталина), а также книги на иностранных языках, выдаются без ограничений.
В этой камере разрешали играть не только в казенные комплекты шахмат и шашек, которые в следственные камеры выдавали редко и ненадолго — на всех желающих не хватало. Здесь разрешалось держать шахматы и шашки, слепленные из хлеба. Если к этому добавить, что с нами сидел чемпион РСФСР по шахматам Кронид Харламов, — станет ясно, с какой интенсивностью и интересом шла игра. Нередко Харламов ложился на свою койку спиной к нам, и мы играли против него на тринадцати досках (хорошо помню эту цифру). Разумеется, он почти никогда не проигрывал.
По вечерам в камере читали лекции: Дрейден о театре, Лупанов по юриспруденции, я об Иване Грозном. Инженер лесопромышленник Иван Иванович Грудинин — о лесном хозяйстве страны. Пятерым из нас, в том числе Грудинину, суждено было попасть в лесоповальный и лесопромышленный лагерь. Тогда, в камере, никто из нас такого не предполагал. Но все равно слушали его с интересом.
Были среди нас и два близнеца (если не ошибаюсь) братья Лавреневы, рабочие одного из ленинградских заводов. С интересными рассказами выступали и они.
Все более странным для нас становилось то, что проходили дни, а нас все не освобождали. Счет нашего пребывания в 28-й камере пошел уже на недели.
Кстати сказать, мы имели прямую связь с соседней, 29-й камерой. В стене, возле пола, под плинтусом, была дыра, которую мы постепенно немного расширили. Улегшись на полу, под топчаном, скрывавшим эту дыру, можно было переговариваться с соседями. От них мы узнали, что и они уверены в том, что их собрали для освобождения. Они тоже недоумевали — почему держат? Почему не выпускают?..
Прошел месяц, пошел второй. Наши иллюзии постепенно испарялись. Каких только предположений о нашей дальнейшей судьбе мы не строили. Большинство из нас, в конце концов, склонилось к тому, что нас ожидает суд. Ведь каждому было сказано — «Ждите суда». Вот мы и ждем.
Однажды обычное течение жизни в нашей камере было буквально «взорвано» появлением у нас нового обитателя.
Как-то вечером перед отбоем мы — так было заведено — совершали «прогулку». Встав по двое, как детсадовцы, делали несколько кругов вокруг стола. Я уже говорил, что камера была просторная. Все понимали — эти «прогулки» мало что прибавляют нашему здоровью и спокойному сну. Но всем нравилось — во-первых, участвовать в каком-то общем, лучше сказать, объединяющем деле, а во-вторых, эти прогулки помогали не опускаться, оставаться и в тюрьме человеком, в котором не убиты человеческие привычки, и который верит, что арест это еще не конец, что впереди жизнь и, значит, нужно сберечь здоровье.
Вдруг растворилась дверь. В камеру из коридора втолкнули какого-то человека. За ним в камеру полетели матрац, подушка, простыня. На пол с грохотом были брошены деревянные козлы и топчан. Дверь тотчас затворилась, защелкал замок, а вновь прибывший, не обратив на нас никакого внимания, стал барабанить кулаками в дверь. При этом он кричал — «Прокурора! Требую прокурора!»
Шедший со мной в первой паре юрист Михаил Николаевич Лупанов шепнул мне:
— Передай всем — провокатор.
Я обернулся и шепнул это слово следовавшей за мной паре. Все наши повторяли его и понимающе кивали головами.
— Не вступать с ним ни в какие политические разговоры, — снова передал Лупанов. И все снова закивали головами.
Через некоторое время все успокоилось. Вновь прибывший устроил свою постель на свободном пространстве у стены. Кто-то из нас при этом сдвигал поплотнее топчаны. Новенький что-то говорил. Рассказывал, что его перевели сюда из Крестов. Называл свое имя и фамилию. Но ему не только не отвечали, его даже и слушать не хотелось. В каждом из нас жила уверенность — все, что он о себе говорит — вранье, легенда. Чего еще, кроме лжи, ждать от провокатора. Да еще так топорно внедренного в нашу камеру.
Наутро, в то время как мы все занимались уборкой камеры, новичок присел на корточки на скамейку и стал листать взятый со стола томик Ленина в красной обложке.
— Ленин-то вот что говорил, — произносил он гнусавым голосом («Какой же еще голос может быть у провокатора», — подумал я) и зачитывал какой-то случайно попавшийся ему на глаза текст. — А у нас, что делается?! Все наоборот.
Никто из нас не реагировал на эти его высказывания. Одни молча делали свое дело — подметали, прибирали на столе, заправляли койки, другие разговаривали между собой. На «провокатора» старались даже не глядеть.
Слово «провокатор» не случайно написалось у меня здесь в кавычках. Очень скоро выяснилось, что никаким провокатором Женька Михайлов не был. Рука не поднимается записать его имя — «Евгений». Нет у меня в памяти такого обозначения для него, как нет, естественно, и его отчества. Иначе как Женька Михайлов — никто не называл его в камере и в лагере, где мы пробыли четыре года на одном лагпункте. Только так называли мы его и в наших разговорах — воспоминаниях после освобождения. Я думаю, что если бы его именем, по капризу судьбы, захотели бы назвать, скажем, теплоход, — на его борту надо было бы так и написать: «Женька Михайлов». Иначе — это было бы просто не его имя.
Так вот Женька Михайлов попал к нам в «политическую» тюрьму из Крестов, то есть из тюрьмы, где содержатся под следствием бытовики, уголовники и прочие, словом, все, кроме «пятьдесятвосьмушников». Сидел он там за мошенничество. Сидел уже шестой раз. Его «специальностью» было подделывать счетно-бухгалтерские документы с целью получения незаконных денег. Прошлые пять судимостей не могли остановить его кипучую натуру. И вот он снова сидел в Крестах в ожидании суда за очередные махинации. Там, в общей камере, он расписывал своим сокамерникам прелести парижских публичных домов. В Париже он никогда, конечно, не был, но был на данную тему хорошо наслышан. Пафос его рассказов, видимо, и в самом деле был таков: «Во, как хорошо живут в Париже! А вот у нас ничего такого же хорошего нет!»
Само собой понятно, оперуполномоченный из Крестов стал получать сводки об этих красочных выступлениях Михайлова. На него было заведено дело об антисоветской агитации, выразившейся в восхвалении западного образа жизни и принижении советской действительности. Ну, а раз дело такое, значит, надо его передавать в МГБ.
Так Женька Михайлов попал в Большой дом. Следствие по фактам его антисоветской агитации провели буквально за день-два, а затем его перевели в нашу камеру. Тоже, как ему разъяснили, для ожидания суда.
С появлением Женьки Михайлова жизнь в нашей камере стала значительно интересней. Старый, опытный «тюремщик» — он знал всевозможные способы разнообразить нудный камерный быт различными давно наработанными в тюрьме приемами. Так, например, он заводил «споры». Спор в тюрьме имеет одну особенность: нет возможности проверить правоту той или иной стороны. Никуда не выйдешь, не достанешь нужной книги. Оказывается, что в этих условиях, то есть в условиях отсутствия подтверждений для любого утверждения или отрицания, с помощью спора по любому, даже самому очевидному поводу, можно довести человека до исступления, до истерии, до желания убить противника. Зная это, Женька Михайлов постоянно затевал нарочито глупейшие споры. Так, например, он подошел к профессору артиллерийской академии с таким вопросом: